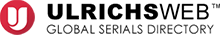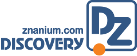Sankt-Peterburg, St. Petersburg, Russian Federation
10.01
10.07
67
There are two types of these theoretical conceptions in jurisprudence. According to the first one, if a mistake was made in the process of formulating legal norms, it cannot be corrected by lawapplying agencies. In addition, these defective rules should be applied until they are amended by legislator. This concept also implies that if a legal norm turns obsolete, it should nevertheless find its application in legal practice. The second theoretical conception adopts a different approach. The application of defective and obsolete legal rules is avoided by law-applying bodies by means of their creating and implementing rulings which violate legitimacy. Law-applying agencies carefully camouflage these actions. In all other respects legitimacy is respected here not less than in the first concept. The findings of the paper, supported by theoretical argumentation and factual data, suggest that compared with the second conception the first one is less effective in securing the survival and the progress of the body politic. Indeed, according to the first approach defective and obsolete legal rules are nonetheless implemented by law-applying bodies as required by legitimacy, inflicting harm on the state
: legitimacy, law-making and law-applying bodies, judicial process of law creation, a ruling which cannot be derived from the law
Статья подготовлена в рамках научного исследования по Гранту Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук № МК–6969.2016.6.
В юридической литературе нередко присутствует точка зрения, согласно которой если при формулировании юридического правила совершена ошибка, то она не может быть исправлена усилиями правоприменительных органов. Более того, последние должны проводить упомянутые ошибки в жизнь, пока они не устранены правотворческими структурами. Указанная позиция также предполагает, что в случае устарелости юридических правил они реализуются правоприменительными органами.
Соответствующие идеи базируются на ряде суждений М. Вебера. В частности, он писал, что «лица, служащие в аппарате политика, должны ему “слепо повиноваться… без помех, вызываемых тщеславием уважаемых людей, или претензий как следствий собственных взглядов”. Ведь “подлинной профессией настоящего чиновника” как члена подобного аппарата “не должна быть политика”. Он призван управлять “прежде всего беспристрастно… В случае если, несмотря на его представления, вышестоящее учреждение настаивает на кажущемся ему ошибочном приказе, дело чести чиновника — выполнить приказ под ответственность приказывающего, выполнить добросовестно и точно, так, будто этот приказ отвечает его собственным убеждениям. Без такой в высшем смысле нравственной дисциплины и самоотверженности развалился бы весь аппарат”» [10, c. 307–308].
Среди юристов эта теоретическая позиция представлена идеями немалого числа исследователей. Так, согласно взглядам Л. И. Петражицкого деятельность правоприменительных органов должна быть подчинена законности. Это означает, что они обязаны действовать на точном основании существующих норм права [20, c. 374, 375].
«В чем состоит задача юриспруденции? — спрашивает Л. И. Петражицкий самого себя. — По нашему убеждению, — отмечает он, — задача юриспруденции состоит в хранении и содействии осуществлению названного… принципа легальности и всего того, что из него следует. В этом, а не в чем–либо другом, заключается нравственное оправдание и культурная миссия юриспруденции. Поскольку юриспруденция сознает или по крайней мере инстинктивно осуществляет эту свою задачу, она является великою и благою культурною силою, стражем и хранителем той magna charta libertatum [Великой хартии вольностей] и других благ, которые скрываются в принципе законности, поскольку же она своими действиями или упущениями нарушает эту задачу, она является не только бесполезною дисциплиною, но и наносит прямой вред, вносит в культуру яд разложения» [20, c. 375].
Подобным образом Р. О. Халфина утверждала, что «в правоприменительной практике выявляется “качество” нормы, ее соответствие достижению поставленной цели. В этом процессе могут быть установлены недостатки нормы и пути ее совершенствования. Однако при всех условиях правоприменительная практика направлена на реализацию нормы… Принцип законности в полной мере относится к правоприменительным органам» [24, c. 68].
Аналогичную позицию отстаивал Л. Фуллер. Этот специалист полагал, что совпадение провозглашенных и фактически применяемых правовых норм представляет собой принцип законности, обязательный для реализации при правовом регулировании [2, p. 81–91].
Таких же взглядов придерживался В. С. Нерсесянц. Как отмечал указанный правовед, «роль суда в российской государственно-правовой системе связана с надлежащей реализацией его функций и задач именно в области действия права, в правоприменительной сфере. По смыслу конституционного разделения властей акты всех звеньев судебной системы (судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных судов субъектов Федерации) — несмотря на их внешние различия — являются именно правоприменительными актами… В целом судебная власть в наших условиях может и должна утверждаться и развиваться лишь… в границах строгого и последовательного соблюдения принципа разделения властей и требований конституционно-правовой законности» [17, c. 37–38, 41].
Сторонники рассматриваемой теоретической позиции признают, что «формально закрепленный закон не может сам изменяться вслед за изменяющимися общественными отношениями. Со временем он может устареть, утратить свою актуальность, отстать от требований жизни. Законы могут быть неудачными, неэффективными, неадекватно отражать характер общественной жизни. В этом случае соблюдение устаревших или неэффективных правовых предписаний может повлечь негативные последствия. Поэтому нередки случаи, когда подобные законы нарушаются по соображениям их устарелости, несовершенства, т. е. нецелесообразности» [21, c. 279]. Однако согласно взглядам этих ученых «с точки зрения принципов законности любые отступления от требований законности, чем бы они ни мотивировались, терпимы быть не могут. Законность, строгое следование предписаниям закона всегда целесообразны. Повсеместное отступление от этих требований повлечет за собой неопределенность, нестабильность правового регулирования. Поскольку цели правового регулирования не будут достигнуты, это нанесет ущерб обществу и правопорядку» [21, c. 279–280].
Изложенному теоретическому подходу противостоит другой. Согласно ему при ошибках правотворчества, устарелости содержания формальных источников права правоприменительные органы исправляют эти недостатки путем формулирования и реализации предписаний, не совместимых с законностью. Но все соответствующие действия правоприменительных структур, нарушающие законность, тщательно скрываются. В остальном она поддерживается не меньше, чем при первом типе.
Согласно данному теоретическому подходу все государственные органы, а не только их высшее звено, занимаются политикой. Под последней, в частности, имеется в виду деятельность по формулированию государственных властных предписаний [1, p. 96–97]. Причем низшие политические структуры не только помогают высшим устранить недостатки в работе последних, но и имеют способность действовать самостоятельно при неустранении таких недочетов. При этом охарактеризованная деятельность низших структур приветствуется высшими, которые осознают, что без описанной помощи и отмеченных самостоятельных усилий подчиненных они не в состоянии эффективно осуществлять возложенные на них задачи.
Рассматриваемый второй теоретический подход представлен многочисленными мыслителями, которые отстаивают точку зрения, что при проведении в жизнь юридических норм правоприменительные структуры в известных обстоятельствах призваны формулировать постановления, противоречащие действующему праву, и реализовывать их на практике. В частности, Д. Локк утверждал, что «законодатели не в состоянии предвидеть всё и создавать соответствующие законы на все случаи, когда это может быть полезно сообществу» [15, c. 356]. Отсюда «исполнитель законов, имея в своих руках власть, обладает на основе общего закона природы правом использовать ее на благо общества во многих случаях, когда муниципальный закон не дает никаких указаний» [15, c. 356]. Кроме этого, «может возникнуть целый ряд обстоятельств, когда строгое и неуклонное соблюдение законов может принести вред» [15, c. 357]. В таких «случаях необходимо, чтобы сами законы уступали место исполнительной власти, или, скорее, этому закону природы и правления, viz. [то есть] чтобы, насколько только возможно, были сохранены все члены общества» [15, c. 357]. Эта «власть действовать сообразно собственному разумению ради общественного блага, не опираясь на предписания закона, а иногда даже вопреки ему, и есть то, что называется прерогативой» [15, c. 357].
Аналогичную точку зрения отстаивал Р. Иеринг. Как заявлял этот специалист, если бы государство беспомощно взирало «на требования жизни, которые не предусмотрены в законе» [13, c. 307], то оно бы погибло. Поэтому «там, где... обстоятельства требуют, чтобы государственная власть пожертвовала или правом, или обществом, она не только уполномочена, но и обязана пожертвовать правом и спасти общество» [13, c. 309]. Иначе и быть не может, поскольку «выше всякого отдельного закона, нарушаемого в таком случае, стоит всеобщий и высший закон сохранения общества» [13, c. 309].
Правда, «отдельному лицу может быть предоставлено в случаях подобного столкновения интересов, когда приходится выбирать между правом и жизнью, жертвовать последнею. Он приносит в жертву только себя, между тем как общество и право продолжают свое существование. Но государственная власть, поступающая таким же образом, совершает смертный грех, потому что на ее обязанности лежит осуществление права не ради самого права, а ради общества; как капитан судна выбрасывает груз за борт, когда того требует безопасность корабля и экипажа, так и государственная власть поступает с законом, когда такой образ действий является единственным средством предохранить общество от важной опасности» [13, c. 309]. Это — «обусловливаемое состоянием крайней необходимости» [13, c. 309–310] право государственной власти, которая «не только смеет прибегать к нему, а и обязывается к тому» [13, c. 310].
В рассматриваемой теоретической позиции формулируемые судом предписания, не укладывающиеся в содержание действующего права, нередко именуются внезаконными [8, c. 115; 11, c. 69–70]. Их отличие от юридических правил состоит в следующем. Если последние обязательны для всех ситуаций в государстве, подпадающих под них, то первые должны быть проведены в жизнь только в деле, по которому судом вынесено решение. Внезаконные предписания могут быть обобщены постановлением высшего судебного органа страны относительно целой категории подобных дел.
Предыдущее изложение позволяет выявить правила, которым должно быть подчинено создание установлений, не укладывающихся в содержание функционирующего права. Так, при решении вопроса об их необходимости нужно сравнивать две вещи. Имеются в виду зло и польза для государства, с точки зрения суверенной власти, от формулирования внезаконных предписаний. Зло, например, заключается в нарушении законности. О пользе, скажем, возможно судить по разнообразным благам, достигаемым посредством выработки указанных установлений.
Внезаконные предписания надлежит формулировать в случае, когда такая линия поведения, с точки зрения суверенной власти, приносит государству больше пользы, чем вреда. От их создания следует отказаться в противоположной ситуации.
При этом при подсчете вреда нужно учитывать, что он имеет место во всех случаях, когда нарушаются ожидания людей, в соответствии с которыми любая юридическая норма будет реализована. Ведь человек строит свои жизненные планы согласно действующему праву. И они расстраиваются, если то или иное правовое правило не осуществляется [10, c. 178]. Вдобавок в этом случае нарушается обычай уважения к праву и тем самым подрывается способность правовых норм упорядочивать человеческое поведение [10, c. 70].
По-видимому, из подобной аргументации исходил Р. Циппелиус, когда рассуждал о «судебном дополнении или исправлении законодательства» [6, S. 64]. По мнению этого правоведа, указанное «дополнение или исправление» возможно в случае, когда «соображения» [6, S. 64], его обосновывающие, «обладают бόльшим весом, чем противостоящие им принципы разделения властей и правовой безопасности» [6, S. 64]. Второй из двух отмеченных принципов, в частности, означает, что адресаты судебных постановлений в состоянии предвидеть и вычислить эти решения на основе действующего права и, таким образом, согласовать с последними свои жизненные планы [3, p. 251–252].
Что касается содержания внезаконных предписаний, то оно должно определяться исходя из современных целей суверенной власти. Иными словами, суду следует учесть устремления всей системы государственных органов, частью которой он является. Для уяснения упомянутых целей требуется обратиться к праву в его формальных источниках, другим правовым актам, политическим документам, научным работам по политологии и юриспруденции, сведениям, распространяемым в средствах массовой информации.
Существуют несколько видов внезаконных предписаний. Некоторые из них направлены на восполнение пробелов в праве. Примером может выступить следующий случай. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не содержал правовых норм об организаторе как об одном из соучастников преступления. Данный пробел был восполнен Пленумом Верховного Суда СССР 8 января 1942 г. при рассмотрении уголовного дела по обвинению Сырцова и других. В соответствующем судебном решении содержалось детальное описание роли организатора преступления, а также порядка привлечения этого соучастника преступления к уголовной ответственности [7, c. 261–262].
Аналогичную иллюстрацию привела К. Б. Ярошенко. Она отмечала, что Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. не содержал норм, регулирующих вопросы времени, места открытия наследства и перехода права на его принятие. Поэтому Пленум Верховного Суда СССР был вынужден сформулировать предписания по всем перечисленным пунктам в постановлении от 10 апреля 1957 г. «О судебной практике по делам о наследовании» [26, c. 135–136].
Другие внезаконные предписания обеспечивают достижение иного результата. Речь идет о неприменении государственными органами правовых норм в конкретных случаях юридической практики.
Указанная линия поведения суверенной власти неоднократно обсуждалась в юриспруденции. Скажем, как утверждал З. Шлоссман, «в многочисленных случаях неисполнение закона или обычая встречается не только обществом, но и юристами с одобрением, в убеждении, что судья, действуя так, выполнил свою обязанность. Применение им требований закона вызвало бы, напротив, неодобрение. История уголовного права показывает… многочисленные примеры такого рода. Уже в XVII веке судебная практика в многочисленных случаях начала оставлять без внимания постановления Каролины, ставшие в противоречие с изменившимся правосознанием времени» [12, c. 103], и та же судьба постигла «многие другие невероятно свирепые местные уголовные законы XVII и XVIII-го века. Но и в практике гражданского права представляется совершенно обыденным явлением неприменение закона и обычаев, хотя их совершенно точно знают, или существенное ограничение их применения. И всё это происходит совершенно добросовестно в убеждении, что этим исполняется судейский долг» [12, c. 103].
При выработке внезаконных предписаний суды нередко используют так называемую созидательную юридическую фикцию. Она есть «любое суждение, которое скрывает или стремится утаить факт того, что под видом применения в конкретном случае действующей правовой нормы соответствующий государственный орган создает и реализует предписание, не укладывающееся в содержание упомянутого юридического правила» [11, c. 23].
К названным фикциям относятся, в частности, несколько способов восполнения пробелов в праве. Так, речь идет об аналогии закона и аналогии права. При обращении к первой утаивание формулирования и реализации правовосполнительного предписания достигается под видом применения правовой нормы, которая непосредственно регулирует конкретную ситуацию, схожую с анализируемой судом. Аналогия права для обеспечения этого сокрытия предполагает применение юридического принципа [4, p. 81; 5, p. 22–21; 11, c. 23].
Примером обращения судебных органов к созидательной фикции аналогии закона является следующий случай. Последствия издания органом местного самоуправления акта, сделавшего исполнение обязательства невозможным, были российским правом не определены. Вместе с тем Высший Арбитражный Суд РФ указал: «Сходные отношения регулирует статья 417 Кодекса [Гражданского кодекса РФ 1994 г.], которая должна применяться к рассматриваемым отношениям» [18, c. 112]. Эта статья гласила: «Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их возмещения в соответствии со статьями 13 и 16 настоящего Кодекса» [9].
К созидательным юридическим фикциям также относится распространительная и рестриктивная интерпретация правовых норм. Причем упомянутое расширительное толкование является одним из способов восполнения пробелов в праве [22, c. 78–90].
Созидательные фикции позволяют решить важную для государства задачу. Деятельность государственных органов по формулированию внезаконных предписаний воспринимается населением как законная.
Данное обстоятельство, несомненно, положительно сказывается на эффективности правового регулирования. Во всяком случае, здесь исключается следование массой человеческих индивидуумов, подчиненных суверенной власти, примеру должностных лиц, отчасти не считающихся с действующими юридическими правилами [14, c. 72, 73–74].
Обыкновенно к выработке внезаконных предписаний сначала приступают суды, составляющие основание судебной системы государства. Причем нередко ими предлагаются различные варианты решения однотипных вопросов, требующих создания отмеченных установлений. Затем к этому процессу подключаются судьи вышестоящих инстанций. Они анализируют все многообразие выработанных ранее внезаконных предписаний и, как правило, либо претворяют в жизнь самые эффективные из последних, либо формулируют новые. Высшему же судебному органу страны подчас остается лишь избрать из совокупности уже сконструированных судами указанных установлений наилучшее и закрепить его в качестве образца для разрешения подобных дел. Не случайно И. Я. Фойницкий подчеркивал: «… добросовестные колебания и даже противоречия составляют необходимое качество всякой судебной практики, непременное условие ее процветания и развития» [23, c. 180].
Отсюда ясно, что в охарактеризованных обстоятельствах осуществляется экспериментирование по выработке внезаконных предписаний. Сначала это имеет место в отдельном случае судебной практики. Если здесь опыт оказывается удачным, то он постепенно распространяется на другие ситуации. Причем суверенная власть, опираясь на результат успешного эксперимента, в последующем нередко формулирует правила, которые закрепляются в нормативных правовых актах.
Реализация рассматриваемого теоретического подхода во многих государствах очевидна. Например, Е. Эрлих утверждал, что «”преобладающая часть юридических правил” политически организованного общества, изложенных в правовых нормативных актах, обычно “возникает из норм... которые впервые формулировались” судьями, “когда споры представлялись им на рассмотрение для вынесения судебных решений”. По крайней мере, Е. Эрлих считал это заключение верным “относительно большей части” известных ему кодексов XIX – начала XX в.» [10, c. 357].
В частности, упомянутый австро-венгерский правовед выделял соответствующую деятельность парижского кассационного суда. Ему, по замечанию Е. Эрлиха, «мы обязаны некоторыми плодотворнейшими юридическими мыслями нашего времени, между прочим, ответственностью за случай и за чужую вину, понятием неправомерной конкуренции, образованием авторского права, страхового договора» [12, c. 112–113].
Отечественные специалисты также отмечали рассматриваемый вклад судов в развитие права. Скажем, Е. В. Болдырев и В. Н. Иванов констатировали, что Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. «явился в значительной степени результатом “учета практики мест — наших народных судов и революционных трибуналов”» [7, c. 256]. По словам же К. Б. Ярошенко, «значительное число разъяснений Пленума Верховного Суда СССР и Верховного Суда РСФСР, которые восполняли пробелы в действующем законодательстве, в 1959–1964 годах было воспроизведено в отдельных статьях Основ [Основ гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик 1961 г.] и ГК [Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.]» [26, c. 135].
Конкретные примеры обсуждаемого вклада деятельности судов в развитие права привел А. И. Пергамент. Так, согласно Кодексу законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 1918 г. «все имущество, принадлежащее супругам, как добрачное, так и приобретенное в браке, считалось раздельной собственностью каждого из них» [19, c. 188]. Однако данный принцип «не соответствовал требованиям того времени» [19, c. 189] и «судебная практика стала от него отходить» [19, c. 189]. Уже в 1924 г. Верховный Суд РСФСР указал, что имущество, приобретенное супругами совместно, может быть признано их общей собственностью. В дальнейшем это противоречащее действовавшему праву положение было закреплено в Кодексе законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. [19, c. 189–190].
Кроме того, до 1936 г. размер алиментов в СССР, взыскиваемых на детей с их родителей, «должен был определяться судами… в твердой сумме» [19, c. 174]. Но этот порядок «не соответствовал жизненным потребностям» [19, c. 175] того времени. Вот почему «практика как народных судов, так и кассационных и надзорных инстанций настойчиво определяла алименты не в твердой определенной сумме, а в процентном соотношении к заработку ответчика» [19, c. 174]. Вскоре советская власть воплотила этот подход в юридических правилах, ибо он, по словам А. И. Пергамента, был «проверен и оправдан жизнью» [19, c. 175].
Судебная деятельность по формулированию внезаконных предписаний нуждается в названии, т. е. в соответствующем термине. Чтобы найти таковой, резонно обратиться к рассуждениям Л. С. Явича. По его словам, «даже в развитых формациях действует, и подчас достаточно интенсивно, так называемый встречный правообразовательный процесс, в силу которого сложившаяся… система объективного права подчас существенно дополняется судебным (административным) правотворчеством и санкционированными обычаями» [25, c. 77]. Причем указанный специалист заявлял: являясь «дополнительным по отношению к прямому нормотворчеству» [25, c. 79], встречный правообразовательный процесс «отправляется от казуального решения» [25, c. 79] и «предполагает одновременное образование субъективного и объективного права» [25, c. 81].
Как уже отмечено, внезаконные предписания к юридическим нормам, т. е. к праву, не относятся. Из рассуждений же Л. С. Явича не прослеживается принципиального отличия «встречного правообразовательного процесса» от правотворчества.
Вместе с тем приведенные слова упомянутого юриста с учетом сделанного замечания образуют почву для формулирования искомого термина. Судебную деятельность по выработке внезаконных предписаний целесообразно назвать судебным правообразовательным процессом.
Разумеется, он не завершается созданием юридических норм. Для этого требуется правотворчество.
Судебный правообразовательный процесс, скорее всего, составляет объективную закономерность правового регулирования, действующую в каждом государстве. По-видимому, именно ее имел в виду Д. Колер, когда утверждал следующее. «История постоянно показывает… что юриспруденция… постепенно уступает духу времени и подкапывается под устаревшее право, пока, наконец, оно не падет совершенно» [16, c. 117]. Вот почему «в судебной практике, которая сама по себе назначена действовать на почве закона, совершается… отклонение права от этой почвы. Говоря так, мы не даем судье наставления или совета отступать от законной почвы; мы только констатируем естественный закон развития права. Противодействовать этому закону… люди бессильны» [16, c. 117].
Что касается оценки двух теоретических подходов, противопоставленных в предшествующем изложении, то ясно, по крайней мере, следующее. Первый при его неукоснительном проведении в жизнь, скорее всего, в меньшей степени способствует выживанию и прогрессу государственно организованного общества, чем второй.
Объяснение просто. Допущенные правотворческими структурами ошибки в юридических нормах и недочеты в этих правилах, вызванные устареванием содержания формальных источников права, в силу действия законности при первом теоретическом подходе проводятся в жизнь правоприменительными государственными структурами. Второй теоретический подход этого не допускает. Вместе с тем он характеризуется не меньшим господством законности, чем первый, кроме указанных случаев скрываемых нарушений юридических правил.
1. Easton D. A Framework for Political Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
2. Fuller L. L. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press, 1969.
3. Kelsen H. Pure Theory of Law. Berkeley, CA: University of California Press, 1970.
4. Lundmark T. Charting the Divide between Common and Civil Law. NY: Oxford University Press, 2002.
5. Pospisil L. J. (1971). Anthropology of Law: a Comparative Theory. NY: Harper & Row Publishers.
6. Zippelius R. Juristische Methodenlehre: eine Einfuehrung. Muenchen: Beck, 1985.
7. Boldyrev E. V., Ivanov V. N. Sudebnaya praktika i ugolovnoe pravo // Sudebnaya praktika v sovetskoy pravovoy sisteme. M.: Yurid. lit., 1975. S. 243-264.
8. Goyhbarg A. G. Chto takoe «probely v prave» // Vestnik grazhdanskogo prava. 1916. № 3. S. 99-127.
9. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federacii. Chast' pervaya: FZ RF ot 30 noyabrya 1994 g. № 51 FZ (red. 31.12.2014) // SZ RF. 1994. № 32. St. 3301.
10. Drobyshevskiy S. A. Istoriya politicheskih i pravovyh ucheniy: osnovnye klassicheskie idei. M.: Norma, 2011. 592 s.
11. Drobyshevskiy S. A., Tihonravov E. Yu. Sposoby vospolneniya probelov v prave. M.: Norma, 2014. 176 s.
12. Zavadskiy A. V. K ucheniyu o tolkovanii i primenenii grazhdanskih zakonov. M.: YurInfoR, 2008. 464 s.
13. Iering R. Cel' v prave. T. 1. SPb.: Izdanie N. V. Murav'eva, 1881. 177 s.
14. Izrecheniya Konfuciya, uchenikov ego i drugih lic / per. s kit. s primech. P. S. Popova. SPb., 1910.
15. Lokk D. Sochineniya. T. 3. M.: Mysl', 1988. 668 s.
16. Muromcev S. A. Tvorcheskaya sila yurisprudencii // Yuridicheskiy vestnik. 1887. № 9. S. 112-117.
17. Nersesyanc V. S. Sud ne zakonodatel'stvuet i ne upravlyaet, a primenyaet pravo // Sudebnaya praktika kak istochnik prava. M.: IGiP RAN, 1997. S. 34-41.
18. Obzor praktiki primeneniya arbitrazhnymi sudami norm Grazhdanskogo kodeksa RF o nekotoryh osnovaniyah prekrascheniya obyazatel'stv: infor. pis'mo Prezidiuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 21 dekabrya 2005 g. № 104 // Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF. 2006. № 4. S. 107-114.
19. Pergament A. I. Rol' sudebnoy praktiki v vospolnenii probelov zakonodatel'stva o brake i sem'e // Sudebnaya praktika v sovetskoy pravovoy sisteme. M.: Yurid. lit., 1975. S. 173-194.
20. Petrazhickiy L. I. Prava dobrosovestnogo vladel'ca na dohody s tochek zreniya dogmy i politiki grazhdanskogo prava. SPb.: Tip. M. M. Stasyulevicha, 1897. 435 s.
21. Teoriya gosudarstva i prava / otv. red. V. D. Perevalov. M.: Norma, 2005. 496 s.
22. Tihonravov E. Yu. Ponyatie rasshiritel'nogo i ogranichitel'nogo tolkovaniya prava // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. 2016. № 1. S. 78-90.
23. Foynickiy I. Ya. Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva. T. I. SPb.: Tip. tovarischestva «Obschestvennaya pol'za», 1912. 567 s.
24. Halfina R. O. Pravo kak sredstvo social'nogo upravleniya. M.: Nauka, 1988. 256 s.
25. Yavich L. S. Obschaya teoriya prava. L.: Leningrad. un t, 1976. 285 s.
26. Yaroshenko K. B. Sudebnaya praktika i grazhdanskoe pravo // Sudebnaya praktika v sovetskoy pravovoy sisteme. M.: Yurid. lit., 1975. S. 119-141.