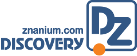Russian Federation
Moskva, Moscow, Russian Federation
The study of the problem of man in Russian religious philosophy, in spite of the difference in approaches among different authors, was carried out, as in the Byzantine Christian medieval tradition, on the basis of the idea, basic for all orthodox anthropology, of Christocentrism, expressing the possibility of comprehension of human nature in all its manifestations Through the personality of Christ. As one of the most significant ideas of Russian religious philosophy, it manifested itself in creative reception by Russian thinkers of patristic anthropology, which demonstrates the commonality of the Christian notion of the Christocentric man and the teachings of an integral man in the domestic religious anthropology.
integrity, personality, anthropology, Russian religious philosophy, all-unity.
Антропологические концепции отечественных философов выгодно отличаются от их онтологических и гносеологических изысканий, демонстрирующих серьезные расхождения с христианской догматикой и ее явную стилизацию. В антропологии, в большей степени привязанной к христианскому мировоззрению, со всей очевидностью проявляются антропологические идеи святоотеческой (в значительной степени исихастской) философской традиции [1; 220–221].
Основываясь на идее единства души и тела как необходимой основы христоцентризма, отечественные мыслители восприняли следующие антропологические ориентиры: об участии человека в своей целостности в качестве единого организма в религиозной жизни; о грехе, рожденном не в низинах плоти, а на «вершинах духа»; об образе Божьем в человеке, реализующимся в своей полноте именно через телесность; о человеке, связанным с плотью мира именно через свою телесность, которая, кроме того, является условием реализации его познавательной и творческой активности [6].
Впрочем, средневековые книжники, опираясь на ранние святоотеческие тексты, за много лет до появления философско-богословских трактатов исихазма в русской православной культуре отразили идеи антропологии целостности в своих рукописных трудах. Отечественная книжная культура по известным объективным причинам избежала болезненных дискуссий, сопровождавших процесс идейного становления христианской догматики в IV–IX вв. Ее практически не затронули мировоззренческие коллизии, возникавшие на основе неоднозначности в восприятии античного философского наследия зарождающимся христианским теоцентрическим мировоззрением, она восприняла в готовом виде вполне устоявшуюся, теоретически осмысленную и закаленную в идейной борьбе с ересями во времена первых Вселенских соборов христианскую философско-богословскую традицию. Однако и этой устоявшейся традиции с ее фундаментальными догматическими положениями требовалось творческое осмысление, и даже не столько в богословском контексте, сколько в контексте специфических национальных культурных реалий.
Ориентируясь в большей степени на антропоцентрическую и моралистическую направленность отечественной культуры, русские средневековые богословы и философы рассматривали онтологическое триединство духа, души и тела как возможность преображения и душевной, и телесной сфер человека, то есть обожение, как главную цель жизни не только отдельно взятого человека, но и человечества в целом. Русские книжники, творчески восприняв христианский символический реализм, позитивно воспринимали телесное начало, относились к нему не как к библейской аллегории, а как к началу реальному, через которое Бог являет себя миру. Они и не отождествляли душу с природным миром, и не растворяли ее, как это делали неоплатоники, в мире божественном, и это позволило им выстроить гармоничную иерархическую систему единства материи и духа. О «теле» в этом случае говорили как о противоположности не душевному, а духовному, при этом понятие души рассматривалось в противоречивых отношениях с так называемой плотью [3].
Распространение аскетических сочинений повлекло за собой необходимость определить границы телесного подвига, что лишь усилило интерес к проблеме соотношения духа, души и тела. Русская средневековая мысль характеризовалась литургическим пониманием телесности как небесной красоты и невыразимого божественного величия, и такое понимание было укоренено в ранней святоотеческой литературе. Например, у Августина Блаженного содержится представление о человеке как образе божьем, говорится о его сходстве с Богом как раз в телесности. Позже и Серафим Саровский говорил о человеческой плоти как «друге», что позволило П.А. Флоренскому оценить это как «влюбленность в тварь». При этом святой Серафим не призывал к непосильным подвигам, но говорил о работе над плотью, воспитывая в ней способность к добродетелям [8; 298].
Становится понятно, что дихотомия души и тела в сочинениях отечественных средневековых мыслителей решалась либо в пользу души, либо тела, однако противоречивое единство этих онтологических величин не нарушалось. Процесс становления идеи онтологической целостности человека обнаружил ее основные функции – нравственную и мировоззренческую, которые наиболее рельефно проявились в решении проблем, связанных с уяснением границ природной реальности, возможностей ее усовершенствования, действенного отношения каждого человека к этой реальности, смысла нравственного подвижничества в земном существовании. Необходимо при этом отметить, что философы-богословы не ограничивали себя одним лишь формулированием спорных вопросов, но все они своим жизненным подвигом, на практике, пытались доказать правоту своих теоретических изысканий. В единстве теории и практики, весьма характерном для всей отечественной средневековой философии, в стремлении подтвердить истинность знания личным поступком формировался отечественный вариант аскетизма, исходивший не из отвержения мира и из презрения к плоти, а из созерцания небесной красоты, способной наиболее явно подчеркнуть всю неправедность материального мира. Таким образом, аскетическое движение призывало к освобождению от пут природного мира, обозначало путь к совершенствованию этого мира, при этом, не призывая к его полному отторжению.
Что касается исторической судьбы идеи свободы, то русское средневековье демонстрирует самое раннее обращение к ее теоретическим основам в философско-богословской антологии «Изборник 1073 года», где она оказалась тесно связанной не только с амартологическими, но и с эсхатологическими, и с нравственными проблемами. Переводчики и интерпретаторы святоотеческих текстов исходили из богословской концепции «Божьего попущения», раскрывающей истоки бытия зла в намеренности допущения их Богом с целью демонстрации своего могущества, испытания силы человеческой к нему любви, выявления тех, кто получит дар бессмертия, а также с целью побуждения выполнять предписанные Им нравственные нормы. Вся полнота ответственности за существование зла перекладывалась при этом на человека, который, получив божественный дар свободы воли, сам оказался виновным в «погублении своя пути», так как «человек самовластен есть о своем спасе и погибели» [3; 166].
Этический аспект идеи свободы был тесно связан с историософской и эсхатологической проблематикой, закрепленной в учениях о так называемых малой и большой эсхатологий: малая эсхатология интерпретировала исторический процесс и зиждилась на принятии возможности свободы волеизъявления в пределах весьма малых, исторически конкретных отрезков времени. Здесь свобода воли интерпретировалась как связующее звено между настоящим и будущим, то есть главной, «большой эсхатологией», которая представляла собой принцип развития мировой истории [4; 42]. Эсхатологические представления русского средневековья парадоксально осуществляли синтез двух, казалось бы, разнонаправленных принципов – провиденциализма (божественного предопределения в отношении всех без исключения природных проявлениях) и свободы воли человека как божественного образа и подобия. Так, Афанасий Холмогорский, пытаясь ответить на вопрос о содержании понятия «образ божий» в человеке, первым делом выделял его разум и свободу (по его оригинальной терминологии – «самовластие»), как важнейшие условия обожения [9; 184].
Тем не менее, несмотря на важность самой постановки отечественными средневековыми мыслителями вопросов об онтологическом содержании человеческой личности, они так и не смогли выйти за рамки концептуального богословия, прорваться за пределы православно-догматической системы координат и поэтому не были готовы обосновать христианскую антропологическую доктрину о свободе серьезными философскими изысканиями.
В XVIII в., продемонстрировавшем принципиально новое видение смысла жизни и истории, новое понимание человека, наблюдается активизация серьезных исследований в области антропологии, что повлекло за собой и утверждение новой интерпретации христоцентрической идеи целостности. Яснее всего эта новая интерпретация проявилась у Г.С. Сковороды, демонстрировавшего в своих сочинениях дуалистическое восприятие человека и природного мира.
Человек представлялся Г.С. Сковороде своеобразной ёмкостью, иерархически соединяющей в себе два «слоя» бытия, и за ширмой телесно-психических переживаний скрывается жизнь духовная – таинственный источник всех знаний. Дуалистичность бытия, идейно укорененная в платонизме, сочетается в творчестве Сковороды с идеей христоцентризма. Этот идейный сплав, обогащенный идеями из области оккультизма, становится для философа основой в его трактовке телесности как всего лишь «маски», «тени» того великого начала, которое скрывается в сердце «духовном».
Оригинальность взглядов Г.С. Сковороды на проблему антропологической целостности подтверждается его учением о сердце как главном духовно-телесном центре человека. Он утверждал, что именно через сердце человеческий организм определяет свой смысл и сущность, сердце представляется «бездной», которая вбирает в себя все человеческое содержание, оно является – «тайной пружиной всей нашей телесной машины» [9; 94, 238]. Иными словами, в сердце проявляется субстанциальная основа человека, и эта мысль распространяется на учение Сковороды о нравственных началах: с точки зрения философа, результатом борьбы сердца как квинтэссенции всего духовного в человеке с эмпирическими проявлениями (прежде всего – волей) жизнедеятельности, в которых Сковорода видел корень греховности, как раз и становится нравственный рост.
Размышления философа о духовно-телесных противоречиях приводят его к мысли о необходимости их преодоления посредством нравственного преобразования (преображения) всего эмпирического мира, и прежде всего – плоти, которая беспрестанно сопротивляется духу. Как справедливо заметил В.В. Зеньковский, в этой части своей философии Сковорода стоит на твердой почве христианства и вдохновляется Библией [9; 94, 238], внося в христианскую антропологию лишь незначительные и непринципиальные для догматики трактовки отдельных ее положений.
Что касается развития на этом этапе отечественной философской мысли идеи свободы как фундаментального основания личности, то эта тема в XVIII в. не была выражена столь ярко, поскольку находилась в тени квиетизма и пиетизма. Тот же Г.С. Сковорода, говоря об основной цели человеческой жизни – преображении мира, призывал покончить с безраздельной властью эмпирии и начать осуществлять ее духовное преодоление, однако при этом он четко не обозначил границ между свободным волевым выбором пути обожения, являющимся источником и двигателем этого положительного процесса, и свободой, ошибочно устремленной к греху. Всякое проявление человеческой воли философ называл то «адом», то «ядом», а человек, чрезмерно возвысивший значение своей воли зачислялся им во враги воли Божьей. Наверное, поэтому в антропологических построениях Сковороды совсем не заметна роль свободы творчества, которая и делает человека образом и подобием Творца, однако вместо этого мы находим «этику покорности "тайным" законам нашего духа» [2; 77].
По аналогии со слабо разработанной проблематикой, связанной с идеей свободы, XVIII – начало XIX в. демонстрирует обращенность к идее синергии: в кругах святых подвижников русского православия трактовка синергии основывалась на чётком разграничении главной цели – обожения – и средств, используемых в процессе соединения человека с Богом, при этом авторы философско-богословских текстов предостерегали от возможных подмен. Такое предостережение было чрезвычайно актуальным на фоне набиравших популярность пиетизма и квиетизма не только в жизни мирян, но и в церковных кругах, занимавшихся разработкой нравственного богословия.
В отечественной православной традиции вырабатывалось собственное понимание идеи синергии, которое кардинально отличалось от представлений в западно-христианской традиции о зарабатывании «заслуг» перед Богом. Если Западу процесс обожения представлялся в виде схождения благодати по заслугам воли человека, то русское православие убеждало не в значимости неких заслуг, а в первостепенном значении соработничества, синергии божественной и человеческой воли. При этом благодать получала значение не единовременной награды за доброе дело, а как процесса, как присутствия в человеке Бога, требующего от человека постоянных усилий. Динамичность идеи синергии и присущая ей двусторонняя связь обосновывалась в аскетических сочинениях ХIХ в. Так, у епископа Феофана содержится утверждение, что дело спасения человека совершается исключительно совместным действием божества и человека, что человек не в состоянии достигнуть своего спасения без помощи божьей благодати. Это является подтверждением святоотеческой мысли о сущности божественной благодати, укореняющейся в человеке с юных лет и становящейся для него естественной и неотделимой, то есть тем, что в отечественных сочинениях получило название «стяжания благодати».
Что касается становления идеи онтологического единства человека, то здесь речь идет о том же святоотеческом антропологическом дуализме как разведении личности «внешней» и «внутренней», но уже переместившемся в философию славянофилов. Весь дуализм идеи онтологической целостности человека проявился в философии И.В.Киреевского, который различал, с одной стороны, эмпирическую, с другой стороны – «глубинную» сферы человеческой жизни. Мыслитель был уверен, что «внутренняя» жизнь человека отделена от «внешней» далеко не из-за их онтологической несовместимости. Именно закрытость «внутренней» жизни человека грехом для И.В.Киреевского является причиной такой разделенности, что подвигло его искать пути к целостности, утраченной после грехопадения, которые мыслитель назвал «собиранием» сил души.
Идея антропологической целостности рассматривалась Киреевским, как это было и в святоотеческой антропологии, в динамическом аспекте: человек, несмотря на свою природную ориентированность на эмпирический мир, должен непрестанно работать над собой и пытаться подняться над эмпирией и подчинить ее глубинной духовной сфере, своему внутреннему «я». Это утверждение проясняет и нравственную позицию философа: нравственное здоровье как основа здоровья всего человека, может быть утрачено там, где не предпринимается борьбы за возрастание сил души. Такое возрастание необходимо обеспечивать не только наличием желания, но и наличием воли самого человека, который стремится к обожению.
Процесс формирования целостного человека, с точки зрения славянофилов, не может обойтись без гносеологической составляющей. Популярный в начале ХХ в. субъективный мистицизм, отвергавший разум и переносивший акцент на веру, входил в противоречия с рационалистическими тенденциями послекантовской эпохи, что воздвигло перед славянофилами фундаментальную цель – не только оправдания веры и возвращения ей руководящего статуса, но и органичного сочетания ее с рациональным мышлением. Эту цель сформулировал И.В. Киреевский, она заключалась в устранении «болезненного противоречия между умом и верою», «согласовании веры и разума» в построении целостного знания. Само целостное мышление для философа означало способность признать в качестве единственного источника познания исключительно знание логическое, но, стремясь к достижению истины, необходимо уметь синтезировать чувства с иными свойствами духовной жизни, при этом надо постоянно искать в глубинах души тот внутренний корень познания, в котором все имеющиеся познавательные способности собираются в единство живого и целостного знания ума [5; 261].
Киреевский стремился обосновать закономерный результат этого синтеза – вознесение разума до уровня «духовного зрения» аналогично восточно-христианскому гносису, при котором происходит возвышение мышления до гармоничного согласия с верой, которая, в свою очередь, получает статус как внешнего, так и внутреннего авторитета. Здесь, правда, Киреевский оговаривается, что гносеологическая целостность содержит в себе кроме веры и разума более богатый набор форм духовно-познавательной деятельности человека и, таким образом, целостность становится сочетанием «всех духовных сил» – как мышления и чувства, так и воли к истине, любви, совести и эстетического созерцания.
Идея гносеологической целостности человека обосновывалась и в философском творчестве А.С. Хомякова, выражаясь в термине «всецелого разума». Он, в отличие от И.В. Киреевского, все же признавал главенство веры в диалектике веры и разума, определяя ее как интуицию, способность внезапно и непосредственно созерцать подлинное бытие или, выражаясь кантовским языком – «вещь в себе». Критикуя рационализм и рассудочное европейское просвещение, А.С. Хомяков убеждал в несовместимости «живой истины», и тем более – истины Божественной, с границами логического мышления. Эта «живая истина», с его точки зрения, должна стать предметом веры как непосредственной данности, а не субъективной уверенности. И все же, не умещаясь в границах разума, являясь металогической областью, вера не противопоставляется философом рассудку. Более того, Хомяков буквально штрихами, без какой-либо глубокой проработки набрасывает такую гносеологическую систему, в которой «ясновидения» веры подвергаются анализу со стороны рассудка, так как только в достижении сочетания веры и рассудка возможно проявление того, что Хомяков называл «всецелым» или верующим разумом – «живознанием».
Светское богословие славянофилов в своих антропологических изысканиях не обходит стороной и проблему свободы, однако здесь и она не подвергается всестороннему философскому анализу. Славянофильство оказалось довольно близко к раскрытию смысла идеи свободы, усматривая в ней основу для осуществления соборности, однако им не удалось раскрыть источник зла в человеческой личности. Это – существенный пробел в антропологии, в которой осознается, что неправильно направленная свобода включает в себя элементы хаоса, но при этом не объясняется, по какой причине свобода оказалась столь близкой злу. Это признавал И.В. Киреевский в своих рассуждениях о свободе воли как теме, в которой содержится много до сих пор не постигнутых тайн [5; 67].
Вместе с тем, славянофильство, ориентируясь на центральную для них идею соборности и трактуя личность как часть церковного единства, всё же не создало на основе идеи целостности завершенного учения о личности. Впоследствии традиция рассматривать антропологические вопросы как вторичные, производные от системообразующего учения о всеединстве, была воспроизведена в творчестве В. Соловьева.
В его сочинении «Чтения о Богочеловечестве» вторичность, зависимость идеи антропологической целостности от учения о всеединстве проявилась весьма рельефно. Здесь философ утверждает, что человеческая личность, точнее – сознание как чистая форма всеединства – является местом внутреннего соединения мировой души с Логосом. По Соловьеву, за долгие годы до прихода Христа, люди получили свое природное оформление, называемое человечностью, и образовали сообщество единосущного человечества еще до боговоплощения. Именно этим философ объясняет существование церкви как богочеловечества вне Христа и до него, что позволило В.В. Зеньковскому определить это состояние как «онтологическую христоцентричность».
Соловьева В. отличает от И.В. Киреевского то, что он избегал употреблять понятие «целостность», однако, как и Киреевский, считал одухотворение человека процессом динамическим, видя в грехопадении, вслед за христианской амартологией, точку отсчета земной истории человечества. На этой почве В. Соловьев разработал собственную историософию, которая в историческом процессе видит итог поэтапного одуховления человека посредством внутреннего усвоения и развития божественного Логоса.
Однако, невзирая на терминологическую неопределенность, антропология целостности весьма оригинальным образом раскрывается у В. Соловьева посредством теории андрогинности, которая впоследствии была творчески развита Н.А. Бердяевым и Д.С. Мережковским.
Свою статью «О смысле любви» философ посвятил исследованию того основания, которое является жизненно необходимым для гармонизации духовных и телесных процессов, для одухотворения всего материального мира. Таким основанием Соловьев считает любовь, которая имеет задачу стать внутренним соединением мужского и женского начал – соединением, не уничтожающим телесность, но наоборот, способствующим обновлению природного мира и восстанавливающим целостность человека. Здесь понятие целостности синонимично восстановленному образу Божьему в человеке, а любовь приобретает статус силы, ведущей природный мир к реализации всеединства.
Иными словами, целостность человека трактуется В. Соловьевым как проявленность всеединства, любовь же он воспринимает как «индивидуализацию всеединства», сообщение всеединой сущности в форме любимого объекта. Очевидно, что учение о всеединстве было не самой хорошей основой для развития глубоких антропологических идей, поскольку в рамках этого учения сама вероятность существования независимого человека была сомнительной. Недооценка антропологии целостности В. Соловьевым была учтена Н.О. Лосским, С.Л. Франком, П.А. Флоренским, С.Н. Булгаковым, Н.А. Бердяевым, А.Ф. Лосевым, которые в своем творчестве пытались продвинуться дальше.
Но в творчестве В. Соловьева содержатся и качественно новые подходы к содержательному анализу идеи свободы, которые, как и в случае с идеей онтологической целостности, оказались тесно связанными с метафизическими взглядами мыслителя. Так же, как и в славянофильстве, в философии Вл. Соловьева имеет место идея об элементе хаоса в человеке, о наличии в нем ночной, тёмной стихии, которая укоренена в его учении о природной двойственности Мировой Души, которая включает в себя как элемент бытия божественного, так и элемент бытия природного, однако, поскольку она сполна не определяется ни тем, ни другим, то пребывает свободной. Таким образом, Соловьев ассоциирует свободу с темным хаосом, проявляющимся и в человеке как его отрицательная основа, как наследственный темный элемент в человеческой душе. Следовательно, у Соловьева свобода становится возможной исключительно в выборе зла, и она закономерно отсутствует в действиях нравственных, поскольку неизбежно заменяется провиденциализмом, с необходимостью ведущим к добру и торжеству нравственного начала.
И, следуя за мистиками XVIII в., В. Соловьев усматривал в идее свободы воли свободу от нравственности, что делает свободу воли как источником, так и причиной зла. Такой трагизм в переживании зла лишь усиливал его метафизический дуализм, и оговорка мыслителя о двойственности свободы весьма противоречива. Так, в сочинении «Чтения о Богочеловечестве» В. Соловьев, рассуждая об этой двойственности, видел в свободе как причину отхода мира от божественного начала, так и причину примирения множественного бытия с Богом и возрождения его в виде всеединого «абсолютного организма». Но В. Соловьев тут же оговаривается о неизбежности желанного конца, полного воплощения божественного замысла в мире, к которому должна привести свобода силой своей «внутренней тяги», что полностью устраняет необходимость участия свободы воли в процессе выбора добра, а взамен выдвигает на первый план детерминизм и провиденциализм.
Свобода, таким образом, играет в философии В. Соловьева больше отрицательную роль как проводник хаоса и зла. Здесь сказывается незавершенность и внутренняя разбалансированность антропологии мыслителя, которая разрывалась между противоположно направленными векторами изначально дуалистического учения о всеединстве. Соловьев В. оказался на распутье между тезисом об абсолютности личности и тезисом об имперсоналистическом разложении личности. Уже в начале ХХ в. на базе методологии всеединства идея свободы получила серьезное развитие в творчестве многочисленных последователей В. Соловьева, однако наиболее серьезная разработка сущности идеи свободы как основы антропологии целостности была предпринята С.Л. Франком, договорившим до конца то, что содержит в себе учение о всеединстве для глубинного познания человека и его предназначения.
Что касается развития идеи синергии в рамках отечественной философской культуры, то следует отметить, что вне богословских изысканий, в религиозно-философской среде она часто не была терминологически выражена, да и сам термин синергии редко проскальзывал в философских трудах, но при этом характерные черты этой идеи часто раскрывались в использовании понятий, так или иначе отражающих органичную связь Бога и человека, осмысливали целостность человека как заданность. В употреблении понятий соборности, богочеловечества, андрогинизма, творчества, свободы, энергетизма, всеединства содержалось стремление отечественных философов, так или иначе, раскрыть разные грани идеи синергии.
Например, в славянофильстве происходило отождествление идей синергии и соборности. Впоследствии П.А. Флоренский часто прибегал к отождествлению понятия синергии с понятиями своей конкретной метафизики. Лосский Н.О. и С.Н. Булгаков употребляли понятия соборного творчества и соборного человечества. Здесь необходимо отметить, что отождествление синергии и соборности вполне обоснованно, но это отождествление «работает» исключительно в традиции православного энергетизма, а не на почве учения о всеединстве. Центральным понятием православного энергетизма является понятие божественных энергий, которые становятся объективной основой духовного единения людей, то есть соборности, однако реальное приобщение к ним возможно только при активизации усилий самого человека, то есть субъективной стороны, что и делает возможным синергийный акт.
Философское творчество В. Соловьева заключает содержание идеи синергии понятие богочеловечества, которое своей субъективной стороной представлено в социуме, общественности. На смену богоподобия отдельного человека у мыслителя приходит богоподобие всего человечества как некой потенциальности, заданности. И все же личность как вместилище всеединства не лишалась своей сакральной роли, поскольку становилась все более актуальной, решая главную задачу восстановления утраченной целостности. В этом просматривается принципиально новая трактовка В. Соловьевым персонализма, что подтверждается его словами о личности как фундаменте «чего-то высшего», что является свидетельством попытки выражения идеи синергии через призму учения о всеединстве.
Понятие «всечеловечество», используемое В. Соловьевым для обозначения цельного, универсального и в то же время индивидуального организма, связывающего всё живое, говорит о синергии в ее горизонтальном выражении, вертикаль синергии осуществляется по линии «всечеловечество-Бог». Философ объясняет это следующим образом: в дохристианскую эпоху ветхого Адама человеческая природа являлась неизменяемой основой жизни, некой константой, в то время как божественному началу было свойственно изменение, движение и прогресс; возникновение христианства стало причиной смены этих полюсов, при которой божественная реальность, найдя воплощение, становится неподвижным основанием, стабильным условием человеческого бытия, в то время как человечество через внутренний поиск самого себя в стремлении соответствовать высокой планке, заданной божественной реальностью, утрачивает былую успокоенность [7; 169]. Но В. Соловьев видит задачу, стоящую перед всечеловечеством, в нечто большем, чем просто личном соединении с Богом, поскольку оно является не только соединяющимся, но и соединяющим с Богом весь мир, что во много крат увеличивает ответственность людей как элементов «всечеловеческого организма» в решении задачи по преобразованию бытия.
Всечеловечность синергии обосновывается и в рассуждениях философа о смысле любви, которая виделась ему не просто как индивидуальное преображение, а преображение всеобщее, то есть охватывающее всё человечество с его прошлым, настоящим и будущим. Любовь представлялась В. Соловьеву энергией, которая сделает человека бессмертным и которая раскрывается естественными усилиями самого человека. Однако здесь философ делает оговорку, что для единичного человека это станет достижимым лишь в сообществе, вместе со всем человечеством, что, правда, вовсе не может отменить или исключить синергийный характер любви, способной производить «духовно-телесные токи», одухотворять природу и воплощать в ней образ всеединства.
О достижении бессмертия и спасении при участии всего человечества в качестве субъективной стороны синергии говорил и Н.Ф. Федоров в своем учении об «имманентном воскрешении». Для философа привычная христианская трактовка воскрешения как чисто трансцендентного акта, то есть без каких-либо усилий со стороны самих людей, была неприемлема. Активно продвигая мысль о соучастии каждого человека в спасении мира, философ трактовал понятия соучастия как соучастие в процессе труда, поскольку видел задачу преображения трудом всего мира, при котором ничего не должно для человека быть «даровым».
Чрезмерная увлеченность Н.Ф. Федоровым субъективной частью синергии подала исследователям его творчества повод для критики в адрес философа по поводу противопоставления действий божественных и человеческих, в противопоставлении несоизмеримых и несравнимых величин – благодати и труда [8; 328]. Другие же, напротив, усматривали в идее труда усвоенную благодать, а слова философа о том, что человечество должно стать орудием Бога в акте спасения мира, вовсе не устраняют благодать в процессе спасения [2; 151]. Важно, что говоря о динамизме, активности, совместном действии, предполагающем нравственную ответственность личности, Н.Ф. Федоров, как и вся русская философия, считает их главными чертами идеи синергии.
Итак, исходя из признания идеи трансцендентности в качестве основополагающей не только в области онтологии, но и в области антропологии, основываясь на гносеологической идее единства веры и знания в опытно-мистическом созерцании как высшей ступени познания, русская религиозная философия приходит к пониманию единства человеческой личности и Бога, возможности нравственного общения с потусторонней реальностью. Осознание этого единства обозначило антропологическую перспективу возможности познания человека посредством парадоксального раскрытия непознаваемого божественного мира. Такое раскрытие становится возможным в рамках христоцентрической антропологии, призывающей к постижению всего человеческого через личность Христа. Качественно новое понимание телесности, ее связи с духом и душой, оригинальные трактовки свободы и синергии, представленные в святоотеческих сочинениях, пытавшихся преодолеть античный дуализм, стали идейно-теоретическими предпосылками формирования в русской философской культуре осознания главной цели человеческого бытия – преображения не только как акта духовного, но и телесного.
1. Bondareva Ya.V. Metodologicheskie osnovy russkoy religioznoy filosofii: istoriko-filosofskiy analiz / Monografiya. - M.: Izd-vo MGOU, 2011. - 322 s.
2. Zen'kovskiy V.V. Istoriya russkoy filosofii. V 2-h tt. - Leningrad: «EGO», 1991. - t.2., ch.1. - 270 s.
3. Izbornik Svyatoslava 1073 goda.//sb.statey, M., 1983. Kn.1-2.
4. Ionaytis O.B. Russkaya srednevekovaya filosofiya i vizantiyskie tradicii. - Ekaterinburg, 1999. - 114 s.
5. Kireevskiy I.V. O neobhodimosti i vozmozhnosti novyh nachal filosofskogo znaniya // Poln. Sobr. Soch. v 2-h tt. - Pod red. M.O.Gershenzona. - M.: Put'. - 1911. - T. 1. - 290 s.
6. Semaeva I.I. Tradicii isihazma v russkoy religioznoy filosofii pervoy poloviny HH veka. - M.: «Logos», 1991. - 244 s.
7. Solov'ev V.S. Chteniya o Bogochelovechestve // Sochineniya v 2-h tt. - T. 2. - M., 1989.
8. Florovskiy G.V. Puti russkogo bogosloviya. - Vil'nyus, 1991.- 600 s.
9. Shestidnev Afanasiya Holmogorskogo. - Hristianstvo i cerkov' v Rossii feodal'nogo perioda (materialy): Novosibirsk: Nauka, - 1989. - 367 s.