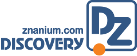Moskva, Moscow, Russian Federation
The article examines the chronotope of the world of the dead in the novel by G. Kazak and the sources of its formation from folklore ideas to religious and philosophical concepts of the XIX-XX centuries.
H. Kasack, the world of the dead
Роман «Город за рекой» был написан автором в послевоенную эпоху и, подобно многим другим текстам немецкой литературы этого периода (Т. Манн «Доктор Фаустус»), апеллирует к мифологическим источникам, так как сюжет путешествия героя в мир мертвых один из самых распространенных в мифологии и мировой литературе. Рассуждая о формах представлений о загробном мире в языческом социуме, В.Я. Пропп констатирует: «Человек переносит в иное царство не только свое социальное устройство (в данном случае – родовое, с позднейшим изменением хозяина в царя), но и формы жизни и географические особенности своей родины. /…/ Эта проекция мира на тот свет уже совершенно ясна в родовом обществе» [5, с. 288]. Представления о загробном мире в христианском мировоззрении принципиально иные: «иной» мир больше не является зеркальным отображением посюстороннего мира, это связано с появившейся темой страшного суда, идеей сегрегации людей, а также с представлением о существовании личного бессмертия. Обратимся к исследуемому роману. На первый взгляд, реальность мира мертвых в романе отражает именно эту языческую схему: герои в городе без названия продолжают заниматься тем, чем занимались и при жизни, отец Роберта Линдхофа продолжает работать как юрист, процесс, ведомый им, не дает ему уйти в небытие. Родители Анны, находящиеся в привилегированном положении, продолжают проживать свою обычную жизнь. Обитатели, напоминающие заводных кукол, продолжают совершать привычные действия, словно бы не замечая незнакомой обстановки, они имитируют жесты, привычные для них в обычной жизни. Перед глазами главного героя проходит дикая пантомима, призванная аллегорически возвести «усилия и тщетность повседневной жизни в абсолютный образ» [3, с. 71]. «…они представляли, будто и в самом деле выдвигают ящики комодов или открывают и закрывают дверцы шкафов – тогда как на месте этих воображаемых предметов было ничто, пустота» [3, с. 71]. Этот, по словам одного из героев, «зеркально отраженный мир» [3, с. 234] призван если не отрицать саму идею смерти, то, как минимум, смягчить наше представление о переходе в «инобытие» и его организации, которая является по преимуществу военной и тоталитарной. Зеркально отрефлексированный мир инобытия показан как вечная война всех народов во все времена, как точка невозврата, где ангельское начало превращается в демоническое: в этом мире герой видит храм-казарму (сочетание идеи военной доблести и религиозного культа) и узнает на фреске Высокого Комиссара с нимбом, «золото которого превратилось в черноту» [3, с. 345]. Однако было бы существенным упрощением полагать, что языческие представления оказались для Г. Казака определяющими. Думается, что релевантной традицией была идущая от Э.Т.А. Гофмана и Ф. Кафки. Именно в традиции позднего романтизма складывается представление о «механическом» и «автоматическом» как о «мертвой» субстанции, характеризующейся бесконечной повторяемостью, а мир мертвых у Г. Казака как раз и построен по этому принципу. В большинстве случаев сознание героев не фиксирует сам переход границы между жизнью и смертью, так солдаты в главе пятнадцатой не понимают, что мертвы, а чувствуют лишь оцепенение и желание от него освободиться. Изображение «застывшего» театра в шестой главе также восходит к традиции «оживших» статуй. Как уже отмечалось нами, в романе Г. Казака с темой границы возникает определенная сложность. Формально граница проходит по реке, но сам момент ее перехода героем не акцентирован в тексте. Уже этим представление о мире мертвых у Казака отличается от фольклорного с его акцентированием мотива перехода границы и четкой бинарной оппозицией между «мертвым» и «живым» [6, с. 101]. Лишь немногие герои в романе Казака осознают мир, в котором находятся, как «иной». Так, Анна определяет этот мир как «чужую» субстанцию, правители города для нее – «они», чужие: «они присваивают себе всякое написанное слово, во благо человечества, как они считают» [3, с. 546]. Умершие люди находятся в странной взаимосвязи с миром живых, каждый из них стремится «зацепиться за прошлое», чтобы не уйти в небытие. Таким образом, каждый из них пытается сохранить то личное, чего их пытается лишить безымянный город. Как кажется, одной из традиций, к которой апеллирует Г. Казак, становится «Божественная комедия» Данте. В последних главах романа особенно актуальными становятся Дантовские образы, да и ранее Роберт сравнивается с Данте, Кателю же предположительно достается роль Вергилия. Однако, такие аналогии преждевременны. В отличие от «Божественной комедии» Данте город за рекой нивелирует грехи и заслуги людей, подчиняя их круговороту «колеса всеобщей судьбы». Основная масса героев – безымянна, как и город, в который они попадают, на общем фоне выделяется линия главного героя, Роберта Линдхофа и близких ему героев. Вот что пишет на эту тему исследователь творчества Данте М.Л. Андреев: «В додантовских видениях среди грешников: клятвопреступников, святокупцев, ростовщиков — и среди праведников (еще менее индивидуализированных, так как праведность труднее, чем грех, поддается рубрикации) встречаются персонажи с именем, но нет никого с лицом и судьбой. У Данте только в двух разделах изображенного им мира: в круге скупцов и расточителей и в девятом небе Перводвигателя, персонажи сливаются в общую массу, где по отдельности не различим никто» [1]. Эта сосредоточенность на личности существенно отличает мир Казака от Данте, таким образом, мы видим, скорее отсылки к додантовской традиции. Квинтесенцией этого подхода становится сцена, изображающая «парад мертвых», где и происходит классификация последних по их «преступлениям», здесь можно найти «потребителей», «марионеток», «авнтюристов» и профессиям. Интересно, что одним из художественных языков Г. Казака становится аллегория. Роберту Линдхофу показывают висящих в клетках демагогов, которые выслушивают собственные речи из встроенных в эти клетки труб, таким образом, как у Данте, наказание за грехи аллегорически повторяет и картину пригрешения. Руководит парадом Великий Дон, он же и определяет, кому оставаться в промежуточном царстве, – имя, неслучайно отсылающее к теме инквизиции. Ранее говорилось, что одной из основных черт романа-антиутопии является конфликт героя и тоталитарного государства [2, с. 218]. Роберт Линдхоф связан необычным долгом, он должен написать хронику, которая свободна от субъективности, т.е. максимально убрать свой личный взгляд. Эта задача оказывается для него поистине невыносимой, ведь для этого ему нужно было бы отречься от собственной личности, биографии, «его рука не могла вывести ни одной строчки» [3, с. 567], а одной из форм, которой пользуется роман, становится древнейшая форма «видения», и связанный с ней принцип аллегоризма. Роберту, как Данте, «показывают» картины «мира мертвых», но картины не претворяются слово Линдхофа, в целом в романе визуальный принцип подачи материала преобладает над логоцентричным. Таким образом, перед нами – роман о невыполненном долге, о ненаписанной хронике? Исполнение этого необычного долга зачастую идет вразрез с его личными интересами: в городе герой встречает свою возлюбленную – самоубийцу Анну, которая просит стать его помощницей, а позже – забрать ее из мира мертвых. Город мертвых своеобразно испытывает героя, и последний подчиняется своему долгу, пренебрегая личным чувством. Первая подобная инициация Роберта происходит, когда Анна просит его пренебречь должностью в архиве ради любви к ней, затем Роберт отказывает любимой в возможности забрать ее из мира мертвых. После предательства Роберта связь для Анны между мирами рвется, ее фигура больше не отбрасывает тени, а впоследствии она теряет свой человеческий облик и превращается в символическую фигуру. Очевидно, застывшие фигуры, принимающие участие в демонстрациях «застывшего театра» также являются героями, чья связь с миром живых прервалась. Несмотря на то, что у героя явно привелигированное положение, конфликт между личным чувством и долгом все равно происходит, Роберт решается на бунт, и герой просит Великого Дона отпустить с ним Анну или самому остаться в царстве. Тоталитарное государство не может существовать без идеологии, в случае романа Г. Казака тоталитарное государство имеет в своей основе философские и религиозные представления. Основная идея, присутствующая в городе за рекой, -- идея подчинения личного общему, кроме того в устах правителей города мертвых присутствует весь спектр идей немецкой философии XIX-XX вв. Так, префект города говорит о том, что природа есть дух, а дух – это природа, эта сентенция есть не что иное, как пара"фраз афоризма Шлегеля. Представление о крахе западной цивилизация – также из арсенала философии XX-го века (Т. Манн, О. Шпенглер). «Историософия» Мастера Магуса с ее доминирующей темой гибели западной цивилизации и «прихода» азиатского начала отражает тенденции философской мысли начала XX-го века. Технократическая революция, по мнению мастера Магуса, обострила «инстинкт истребления»: «люди пытались перехитрить законы природы» [3, с. 129]. Европейцы, по его мнению, «жалкие, беснующиеся существа, последние отпрыски двух тысячелетий западной культуры» [3, с. 130]. «Нам внушали, что человек – венец творения, а он – навозная куча, вот кто», – восклицает одна из теней [3, с. 200]. Фаустовский перевод фразы Библии «вначале было дело» объявляется кощунственным, так как «дело», любая человеческая деятельность по усовершенствованию мира имеет печальные последствия. Эта идея из романа Г. Казака созвучна высказанной Т. Манном в эссе «Рассуждения аполитичного», написанного около тридцати лет раньше: «"Дух", который делает, действующий дух "дух" разоблачает, демонстрирует абсолютный радикализм своей сути, потому что дела чистого духа могут быть только наирадикальнейшими» [4, с.70]. Не вдаваясь в подробности этого эссе, отметим лишь, что его основной доминантой является идея, подкрепляемая ссылками на Ф.М. Достоевского, противостояния Германии остальному западному миру с его философией действия и впоследствии идеей «колониализма цивилизации» [4, c.52--59]. Интересно, что из «идеалогического прошлого» Германии берутся лишь выдержки из философских учений, музыка и литература в городе отсутствуют (глава пятнадцатая). Однако, примечательно, что, описывая мир мертвых, Г. Казак не проводит исторических аналогий между этим миром и миром послевоенной Германии, то расширяя границы «потустороннего мира» до пределов человеческой цивилизации, то «сужая» его до границ отдельной личности -- Роберта Линдхофа. В связи с последним утверждением, было бы интересно рассмотреть главу двенадцатую, в которой возникает тема встречи героя с самим собой, возникает тема зеркала, в котором герою открывается его собственное уродство, блуждание же по лабиринтам города начинает рассматриваться как возможный путь к себе самому. Именно в двенадцатой главе, как кажется, Г. Казак наиболее близок модели мифологического мышления, для которого «микрокосмос» и «макрокосмос» оказываются тождественными. Однако, как представляется, для прочтения текста автора XX-го столетия такой подход весьма упрощен. Именно архивариус Линдхоф объясняет умершим солдатам, желающим убежать, сущность «города мертвых» и невозможность побега: «Насильственная смерть слишком быстро настигла вас. Не было приготовления, перехода из одного состояния в другое. Плоть перестал существовать прежде, чем это дошло до вашего сознания» [3, с. 678]. Задача Линдхофа – проинтерпретировать то, что он видит, и архивариус пытается это по мере возможности сделать, ему же принадлежит и загадочное объяснение феномена мира мертвых: «Это не воскресение, как иные поначалу полагают, но промежуточный период, в котором жизнь проходит через фильтр, после чего уже копируется только ее пустая форма». По мнению одного из исследователей, представление о «мире мертвых» как о некой «промежуточной» форме существования восходит к Тибетской книге мертвых, которая так описывает мир, воспринимаемый только что умершим человеком: «Ты видишь родственников и свойственников и обращаешься к ним, но не получаешь ответа» [7, с. 278]. Так в главе «Существование в промежуточном состоянии и его отличительные особенности» описывается это состояние – это страдания человека, не могущего войти в свое тело: «Так страдают в промежуточном состоянии ищущие родиться вновь» [7, с. 283]. Данное сопоставление, видимо, не оправдано, так как повествование романа сосредоточено не на ощущениях одного жителя «города мертвых», но живого – Роберта Линдхофа.
Сочетание слов – «пустая форма», которая есть ни что иное, как слепок сознания, здесь ключевое. Рискнем предположить, что сама идея консервации «пустой формы», присутствием которой объясняются, возможно, и нелепые повторяющиеся действия людей, и феномен «застывшего театра», восходит к концепции архетипа К.Г. Юнга, а этот мир – репрезентация концепции «коллективного бессознательного». Как бы то ни было, для Робера Линдхофа «мир мертвых» – это мир сознания, нашедший свое воплощение в поэтике сюрреализма и заключающий в себе экзистенциальные вопросы.
1. Andreev M.L. Dante Alig'eri "Bozhestvennaya komediya" http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/italy/andreev-dante-bozhestvennaya-komediya.htm (data obrascheniya 16.04.2022)
2. Danilkova Yu.Yu. G. Kazak i E. Zamyatin: k voprosu o roli mifologicheskih allyuziy v antiutopii. - Novyy filologicheskiy vestnik. - №4(43). - Moskva: RGGU, 2017.
3. Kazak G. Gorod za rekoy. Geliopolis: Per. s nem. Sost. Arhipova Yu. I. - Moskva: Progress, 1992
4. Mann T. Rassuzhdeniya apolitichnogo // Put' na Volshebnuyu goru. - Moskva: Vagrius, 2008.
5. Propp V.Ya. Istoricheskie korni volshebnoy skazki. - Sankt-Peterburg, 1996.
6. Semantika vremen goda v russkoy slovesnosti: kollektiv. monografiya / I. A. Belyaeva i dr.; otv. red. A. I. Smirnova. M., 2021.
7. Tibetskaya kniga mertvyh. - Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 2008.
8. Kasack H. Die Stadt hinter dem Strom. Leipzig, 1988.