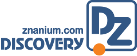Вопрос о месте и роли индукции в научном познании – один из самых «старых» в ряду проблем теории научного познания. Уже античные философы задумывались над тем, как в научном познании осуществляется переход от единичного и частного к общему, от менее общих идей – к более общим идеям, можно ли с помощью чувственных данных обосновать истинность законов и теорий. Отвечая эти вопросы, античные мыслители исходили из определенных представлений о самом научном познании. Понятия «знание», «научное знание», «философия» не были тогда еще в достаточной степени разведены и часто употреблялись как синонимы. Это связано с тем, что в античную эпоху конкретно-научное знание хотя и существовало (и даже в относительно развитой форме, если говорить о таких науках, как геометрия, астрономия, механика, история), однако оно еще не было отделено от других родов знания (например, от философии). Поэтому и вопрос об индукции как методе научного познания ставился античными мыслителями в достаточно общей форме, а именно как вопрос о роли индукции в достижении знания вообще.
1. Особенности античной науки
Анализ представлений античных философов о научном познании показывает, что эти представления имели свое основание во всей материальной и духовной культуре того времени и во многом были обусловлены особенностями самой античной науки, имевшей в целом созерцательный и умозрительный характер. Древнегреческая наука была созерцательной, прежде всего, в том смысле, что основной формой ее развития были не экспериментальные исследования, не активное и целенаправленное испытание природы, а в основном приемы наблюдения и чувственного или мысленного созерцания природы. Эта созерцательность античной науки была во многом порождена характерным для античного общества резким отделением физического труда, возложенного на рабов, от умственного труда, считавшегося призванием и обязанностью свободных граждан. Общество, в котором физический труд рассматривался как удел в основном рабов, как занятие, «бесчестящее свободных людей» [16, т. 20, с. 643], не могло способствовать развитию экспериментальных исследований, требующих известных физических усилий и иного отношения к физическому труду.
Постоянно воспроизводимый разрыв между умственным и физическим трудом объективно порождал у античных философов представление о том, что именно созерцание, чувственное или умственное, является основным источником и средством научного познания. Философское сознание, которое в своей сущности всегда есть не что иное, как «духовная квинтэссенция» эпохи (Гегель), закрепив это «естественное» представление античных философов, положило его в качестве одного из самоочевидных принципов при объяснении процесса научного познания.
«Представление о познании как о созерцании, – отмечал известный исследователь античной философии А.С. Ахманов, – сказалось, прежде всего, на философской терминологии греков. В самом деле, слово «теория», обозначающее научное постижение действительности, переводится на русский язык словами: «смотрение», «наблюдение», «обозрение». Слово «идея», которое Платон употреблял для обозначения постигаемого в понятиях истинно сущего или идеального прообраза вещи имеет значение вида, зримого, так же, как и слово «зйдос» – «вид» [6, с. 12].
Согласно представлениям древнегреческих философов, человеческий разум способен «видеть», «созерцать» общие идеи и законы подобно тому, как наши глаза способны «видеть», «созерцать» чувственно воспринимаемые объекты. Вера античных философов в то, что разум имеет «очи», что существует видение умом, аналогичное видению глазами, явилась не только одной из причин умозрительности античной науки, но и сама послужила своеобразным оправданием этой умозрительности. Неслучайно наибольший удельный вес и главенствующее положение в античной науке занимают философские исследования, а философия как умозрительная наука о «первых началах и принципах» (Аристотель) считается идеалом науки и объявляется единственно свободной наукой: «Но как свободный человек, говорим мы, – это тот, который существует ради себя, а не ради другого, так ищем мы и эту науку, так как она одна только свободна изо всех наук: она одна существует ради самой себя« [2, с. 22].
Необходимо отметить, что представление о научном познании как о созерцании мышлением общих идей было характерно не только для философов-идеалистов Древней Греции, но и для древнегреческих материалистов и их наиболее видного представителя – атомиста Демокрита. Возражая против чистой «аподейктики» элеатов и считая, что исследование природы должно опираться на чувственный опыт, Демокрит, тем не менее, был согласен с ними в том, что сами по себе чувственные восприятия еще не могут дать истинного знания. Согласно Демокриту, истина может быть постигнута только мышлением, ибо разделенные пустотой атомы, из которых состоит все существующее, настолько малы, что не могут быть чувственно восприняты. При этом мышление трактуется Демокритом не как способность человека выдвигать гипотезы, которые затем проверяются практикой, а как непосредственное усмотрение того, что недоступно органам чувств как более совершенный, нежели чувственное восприятие, вид созерцания. По свидетельству Аэция, Левкипп, Демокрит и Эпикур учили, что «…ощущение и мышление возникают вследствие того, что приходят извне образы» [17, с. 79].
Кроме созерцательного и умозрительного характера античной науки, другой, не менее важной, ее особенностью является та, которая была названа А.С. Ахмановым «принципом разумного обоснования». «Характерной чертой древнегреческой науки, – пишет он, – является принцип разумного обоснования, означающий в вопросах знания отказ от всякого религиозного и исторического авторитета и замену его авторитетом человеческого разума, становящегося судьей в вопросах истины. Этот принцип освободил философию и частные науки от религиозного мифа и сообщил философской и научной мысли то движение, которое подняло древнегреческую науку на исключительную для того времени высоту» [6, с. 16].
Вполне справедливо утверждать, что требование разумного обоснования любых идей и суждений дало не только мощный толчок развитию мышления и науки в Древней Греции, но явилось одной из главных причин тех поистине «исполинских» успехов древних греков в области философии, которые, как подчеркивал в свое время Ф. Энгельс, обеспечили им «…в истории развития человечества место, на какое не может претендовать ни один другой народ» [16, т. 20, с. 369].
Явившись оригинальным продуктом греческой культуры, требование разумного обоснования непосредственно привело античных ученых к идее доказывания и доказывающей науки. Эта идея нашла свое яркое воплощение, прежде всего, в попытках создания античными учеными математики как дедуктивной системы знания. Как справедливо отмечал В.Ф. Асмус, «…греки обнаруживают тенденцию превратить элементарные истины алгебры и геометрии, сформулированные вавилонянами и египтянами как тезисы, в доказываемые теоремы» [4, с. 65]. Реализация идеи доказывающей науки нашла выражение также в создании Аристотелем логики как особой науки, имеющей своим предметом исследование методов, форм и средств доказательства.
Известно, что в древние и средние века конкретно-научное знание существовало и развивалось еще в тесной и органической связи с философским знанием, представляя собой единую систему знания. Одной из объективных предпосылок возможности осуществления такого синтеза было слабое развитие в античную эпоху конкретных наук. «У греков, – писал Ф. Энгельс, – именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до анализа природы, – природа еще рассматривается в общем, как одно целое» [16, т. 20, с. 369].
Но столь же важным фактором существования целостности знания, присущего античной науке, было то, что многие древние ученые сознательно ставили перeд собой цель построить все знание как единую, целостную систему. Уже милетские натурфилософы и Гераклит пытались подвести все разнообразие явлений природы под некую единую основу, стараясь найти «единое во многом». Мир рассматривался ими как некий целостный организм, в котором каждое явление находится в гармоничном единстве с другими и подчиняется основным законам, «началам». Конечно, такой подход во многом носил еще характер стихийного стремления к целостности. Ясная и сознательная постановка вопроса о путях, методах и средствах построения научного знания как единой целостной системы никем из милетских философов еще не ставится; в центре внимания этих философов – сам мир, а не способы и средства его познания. Отчетливые попытки в этом направлении предпримут в Древней Греции только Платон и Аристотель. В отличие от предшественников проблема целостности знания получит у них ярко выраженный гносеологический характер. «Для Аристотеля, как и для Платона, – отмечал Маковельский, – наука есть система понятий, причем, по мнению обоих этих мыслителей, все понятия образуют определенную иерархию, в которой каждое отдельное понятие занимает определенное, строго фиксированное место» [15, с. 115].
Вера Платона и Аристотеля в возможность построения целостного научного знания с первыми принципами в своей основе во многом опиралась на успешные попытки древних греков в системном построении геометрического знания. Красота и сила дедуктивно-организованного геометрического знания, придававшая ему строгость, доказательность, очевидность, изящество, настолько поражали их воображение, что нередко они склонны были видеть в числах что-то «божественное». Античных философов привлекало в геометрии и математике в целом, прежде всего, то, что в ней сам принцип целостности в виде дедуктивной организации математического знания впервые получил четкую и проверяемую форму. Неслучайно в платоновской Академии, выходцем из которой был и Аристотель, изучению математики в деле подготовки философов придавалось первостепенное значение.
Сознавая трудности построения науки как единой, дедуктивно-организованной системы знания, Платон и Аристотель считали, тем не менее, такую программу в принципе единственно верной «Существование начал необходимо принять, другое – следует доказать» [1, с. 199]. Одна из фундаментальных трудностей, с которой столкнулись Платон и Аристотель при обосновании своей программы науки, заключалась в том, чтобы ответить на вопрос: как могут быть получены первые принципы, «начала» научного знания? Попытки этих философов найти такие «начала» и привели их к постановке и обсуждению проблемы индукции.
2. Индукция в концепциях познания античных философов
К индукции как определенному специфическому способу движения мысли впервые в древнегреческой философии обратился Сократ. Аристотель в «Метафизике» пишет: «По справедливости две вещи надо было бы отнести на счет Сократа – индуктивные рассуждения и образование общих определений: в обоих этих случаях дело идет о начале знания» [2, с. 223].
В трактовке Сократа индукция («эпагогэ», приведение, наведение) означает прием движения мысли, состоящий в том, что для любого общего понятия («мужество», «добродетель» и т.п.) дается общее определение, а затем рассматриваются его частные примеры. Поскольку такое сопоставление общего и частного, как правило, приводит к пересмотру первоначального определения как некорректного, постольку указанная процедура повторяется. Целью индуктивного процесса является выработка такого определения рассматриваемого понятия, которое соответствовало бы всем известным случаям его употребления. Обращение Сократа к индукции тесно связано с его учением о природе этического знания. Как известно, Сократ полагал, что каждый человек обладает скрытым нравственным понятием («даймон» – внутренний голос, руководящий поступками человека), что этические нормы, смутно чувствуемые каждым человеком, имеют врожденный характер. Индукция, согласно Сократу, и является тем рациональным методом, с помощью которого может быть выявлено, прояснено и раскрыто содержание врожденных этических норм.
Отводя индукции важную теоретико-познавательную функцию в своей этической концепции, Сократ сознавал при этом, что сами по себе индуктивные рассуждения имеют логически не доказательный характер, а потому не могут гарантировать истинность обосновываемых с их помощью определений общих понятий. Осознание этого обстоятельства явилось одним из оснований скептической позиции Сократа по отношению к попыткам постигнуть этическую истину чисто рациональными средствами и, несомненно, способствовало укреплению его веры в то, что если этическая истина возможна, то она имеет врожденный характер.
Но свое основное развитие проблема индукции получила в концепциях познания Платона и Аристотеля. В отличие от Сократа оба философа не ограничивают рассмотрение проблемы индукции рамками только этического знания, а ставят ее гораздо шире, непосредственно связывая с обсуждением вопроса о способах построения научного знания как целостной и доказательной системы.
Пытаясь обосновать возможность объективно истинного знания, Платон высказывает глубочайшую идею о том, что сократовские определения, как и вообще любые определения, имеют своим предметом не чувственно воспринимаемые вещи, а нечто иное. Определяются, учил Платон, не вещи, ибо они постоянно изменяются и не тождественны самим себе, а идеи, которые и составляют предмет знания. Проводя четкое различие между вещью самой по себе и идеей этой вещи, Платон рассматривает отношение между миром вещей и миром идей как имеющее двоякую форму: а именно как отношение «причастности» вещей идеям и как отношение «присущности» идей вещам. И здесь Платон высказывает еще одну глубочайшую идею о специфике бытия идей. По Платону, идеи в отличие от вещей имеют не пространственное, а идеальное существование, и в «Тимее» он прямо расценивает взгляд, согласно которому идеи находятся, подобно чувственно воспринимаемым вещам, в каком-то пространстве, как ошибочный, считая его порождением несовершенного способа мышления: «Мы точно грезим и полагаем, будто все существующее должно неизбежно находиться в каком-то месте и занимать какое-нибудь пространство, а то, что не находится ни на земле, ни на небе, то и не существует» [5, с. 134].
Именно потому, считает он, что идеи – это не пространственные вещи, а идеальности, и отношения между ними и вещами являются идеальными и возможны как «причастность» одной вещи многим идеям, так и «присущность» одной идеи многим вещам. Говоря языком теории множеств, в концепции Платона отношение между вещами и идеями рассматривается как отношение двух множеств, между элементами которых существует много-многозначное соответствие: с одной стороны, одна и та же вещь в принципе совместима с бесконечным количеством идей и определений (лишь бы они не противоречили друг другу); с другой стороны, одна и та же идея может быть высказана о многих и при этом разных вещах.
Платон вслед за Сократом считает, что объективно истинное знание имеет врожденный характер. Однако в отличие от Сократа, у которого врожденный характер знания лишь постулировался, Платон пытается дать обоснование этому постулату. В результате он приходит к своей теории «анамнесиса»: трактовке познания как процесса припоминания душою тех идей, которые она уже созерцала когда-то в мире чистых сущностей до своего вселения в тело конкретного индивида. Эта теория, бесспорно, является самым слабым и уязвимым пунктом платоновской теории познания. Как тонко подметил В.Ф. Асмус, «…заговорив о "припоминании", Платон как будто покидает почву трезвого философского исследования, как будто отдается во власть своей мифотворческой фантазии. Учение теории познания оборачивается мифом, в философе возвышает голос поэт» [5, с. 147].
Несмотря на всю афористичность своей теории, к которой Платон часто прибегал лишь для того, чтобы образно разъяснить свою концепцию знания, она не была чем-то случайным для него. Для Платона так же, как и для многих древнегреческих ученых, вера в существование души и в ее бессмертие была столь же непреложной ценностью, сколь для многих современных ученых бесспорным является обратное. В известном смысле, платоновская теория «припоминания» превратно отражала реальный факт преемственности знания от одного поколения к другому.
Какой бы мистической с точки зрения современных представлений о познании ни казалась нам платоновская теория «анамнесиса», тем не менее необходимо признать, что в условиях созерцательности античной науки она позволяла не только весьма последовательно противостоять релятивизму и скептицизму софистов, отрицавших возможность достижения объективного знания, но и трактовать сам процесс познания не как чисто субъективный, а как существенно объективный по своей природе процесс.
Исходя из идеала доказывающей науки, Платон видел основную задачу научного познания в том, чтобы свести менее общие идеи к более общим и, в конце концов, к самым общим – «началам», из которых затем все эти общие и частные идеи могли бы быть выведены логически. Соответственно, он считал, что существуют два основных пути научного познания: 1) путь вверх – «синагогэ», соединение, восхождение ума от чувственно воспринимаемого единичного через гипотезы к «началам», подведение менее общих идей под более общие, «много» – под «единое»; и 2) путь вниз – «диайрезис», деление, нисхождение ума от «начал», или «высших» родов, к «видам», деление «родов» на «виды».
Многими авторами платоновское учение о двух путях научного познания справедливо расценивалось как своеобразное понимание и признание Платоном в качестве двух основных методов научного познания индукции («синагогэ») и дедукции («диайрезис»). Подчеркивая данное обстоятельство, А.О. Маковельский в «Истории логики» пишет: «Платоновский прием "синагогэ" есть дальнейшее развитие сократовской индукции» [15, с. 69]. Необходимо отметить, однако, что если и правомерно рассматривать платоновский «путь вверх» в качестве индукции, то только не в смысле способа логического выведения общих идей из чувственных данных. Такое понимание принципиально чуждо Платону. Его теория познания отличается ярко выраженным антиэмпиризмом. Признавая необходимость обращения познающего субъекта к чувственному опыту при выдвижении им тех или иных общих идей, Платон, однако, считал, что связь между чувственными данными и идеями не имеет логического характера. Он полагал, что чувственный опыт в процессе познания общих идей играет лишь роль толчка, возбуждающего деятельность души по «воспоминанию» идей. Исследуя природу понятий, Платон утверждал, что понятие не может быть рассмотрено ни как результат чувственного созерцания вещей (поскольку чувственные восприятия всегда имеют дело лишь с тем, что существует в данном месте и в данное время), ни как результат умственного созерцания вещей, ибо общее вообще не содержится в вещах. Если бы общее целиком содержалось в какой-нибудь одной вещи, рассуждал Платон («Парменид»), оно не было бы общим. Но оно не может и частично содержаться в отдельной вещи, ибо не имеет частей.
Указывая на принципиальную возможность дать любой вещи бесконечное количество самых различных определений, Платон приходит к выводу, что необходимо уже заранее иметь готовое (хотя бы смутное) понятие, чтобы судить о том, соответствует та или иная вещь определенному понятию или нет.
Обосновывая необходимость индукции («пути вверх») в научном познании, Платон утверждал, что только бог имеет возможность непосредственно созерцать высшие истины; человек же, чтобы «не ослепнуть душой», должен постепенно подниматься от частных идей ко все более и более общим, пока, наконец, ум его не дойдет до высшей, уже ни к чему не сводимой идеи. При этом поскольку, согласно Платону, душой в мире чистых сущностей созерцались уже все идеи, и наиболее общие и менее общие, постольку тем самым им принципиально гарантировалась возможность непрерывного индуктивного восхождения.
Платон, хотя и рассматривал индукцию в качестве необходимого пути в научном познании, тем не менее полагал, что с помощью индукции можно получить лишь мнение (возможно, даже истинное), но не знание. Сопоставляя в «Меноне» истинное мнение и знание, он подчеркивал, что «истинное мнение ведет к правильным действиям ничуть не хуже, чем разум» [18, с. 407], что оно «ничуть не хуже знания и не менее полезно в делах» [Там же, с. 408]. И все же знание он расценивал выше истинного мнения. Основной недостаток мнений, коренящийся в самой их природе, Платон видел в том, что, какими бы правильными и полезными мнения ни были, они «не хотят» оставаться неизменными и всегда стремятся «убежать» из человеческой души. Чтобы они не убегали и стояли неподвижно, «как статуи Дедала», их необходимо связать. «Будучи связанными, мнения становятся, во-первых, знаниями, и, во-вторых, устойчивыми. Поэтому-то знание ценнее правильного мнения и отличается от правильного мнения тем, что оно связано» [Там же].
Способом такой связи мнений по Платону является дедукция («диайрезис»). Благодаря дедукции, полученные индуктивным путем истинные мнения связываются в целостную систему и впервые становятся знанием. При построении знания ум, совершая вторую половину своего пути, вновь нисходит к концу, но уже «не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним» [19, с. 319].
Идея Платона о существовании двух основных путей построения целостного научного знания была одним из важных завоеваний античной мысли. Ее дальнейшая разработка связана с именем Аристотеля, в теории познания которого она представлена в наиболее систематической для античной науки форме. Исходя, однако, из существенно иных по сравнению с Платоном онтологических, гносеологических и логических предпосылок в объяснении природы знания, Аристотель, соответственно, по-другому трактует и содержание этих путей. Если у Платона под дедукцией имелось в виду деление «родов» на «виды», понимаемое как дихотомия, то у Аристотеля основной формой дедукции выступает категорический силлогизм. Если индукцию Платон трактовал как обратную дедукцию, как восхождение ума от одних идей к другим, рассматриваемым как основание первых, то у Аристотеля индукция понимается перечислительным образом как вывод от «некоторых» ко «всем», как способ логического движения мысли от знания об отдельных чувственно воспринимаемых фактах к знанию общих законов.
Пытаясь вслед за своим учителем обосновать возможность построения целостного научного знания с первыми принципами в своей основе, Аристотель при этом считает, что «начала» науки имеют не врожденный, как учит Платон, а опытный характер. Учение о врожденном характере знания Аристотель считает «нелепым», ибо, рассуждает он во «Второй Аналитике», если бы знание было врожденным, то мы владели бы более точным знанием, чем доказательство, не замечая этого. Это, считает Аристотель, абсурдно. Ум, утверждает Стагирит, лишь в возможности содержит в себе мыслимое. «В действительности этого нет, покуда он не помыслит. Здесь должно быть так, как на письменной доске, на которой в явном виде ничего не написано; то же происходит и с умом» [3, с. 96].
Поскольку априоризм Платона в объяснении природы общего знания существенным образом опирался на его онтологические предпосылки о существовании общего и единичного, постольку последовательное преодоление этого априоризма было невозможно без пересмотра его учения о взаимоотношении общего и единичного. В отличие от Платона, исходившего из существования особого мира чистых сущностей и противопоставлявшего его чувственно воспринимаемым вещам как миру единичного, Аристотель полагает, что общее существует лишь в единичном и через него. Согласно Аристотелю, очевидно, что сущность не может существовать отдельно от того, сущностью чего она является. Удвоение же Платоном мира бытия (на мир вещей и мир идей) Аристотель квалифицирует как бесполезное для теории познания.
Платон в соответствии со своим онтологическим учением считал, что познание общего (смутные понятия) должно предшествовать познанию чувственно воспринимаемого единичного (иначе, утверждал он, невозможно понять, на каком основании разум разделяет вещи по родам, относя одни вещи к одному роду, а другие – к другому, не смешивая их). Согласно же Аристотелю, познание общего не может предшествовать познанию единичного, так как общее не существует отдельно от единичного, а значит, и познать его невозможно иначе, как через единичное. Хотя, рассуждает Аристотель, первое по природе есть общее, ибо оно определяет единичное, однако для познания, или, иными словами, «для нас», первым является единичное.
Решительно отвергнув платоновскую концепцию о врожденном характере общего знания и полагая, что общее постигается мышлением только через чувственно воспринимаемое единичное, Аристотель приходит к признанию перечислительной индукции как необходимого пути познания мышлением общего: «…однако и общее нельзя рассматривать без посредства индукции, ибо и так называемое отвлеченное познается посредством индукции... Но индукция невозможна без чувственного восприятия, так как чувственным восприятием познаются отдельные вещи, ибо иначе получить о них знание невозможно» [1, с. 217, 218].
При этом перечислительная индукция исследуется Аристотелем двояко: 1) как специфическая форма умозаключения и 2) как метод доказательства. Такой подход к ее исследованию был прямым следствием понимания им целей и задач логики. С одной стороны, созданную им силлогистику он рассматривает как формальную науку, как Канон; с другой – трактует ее не только и даже не столько как учение о правильном рассуждении, но как орудие доказывания объективной Истины, как Органон познания. «Для Аристотеля, – отмечал А.С. Ахманов, – как это видно из "Аналитик", силлогизм есть, прежде всего, средство доказывания объективной истины, а не только убеждения кого-то в чем-то. Нет никакого сомнения в том, что центральной проблемой Аристотелевской логики является проблема доказывания истины» [6].
Исследуя индукцию через перечисление как специфическую форму умозаключения, Аристотель при этом различал силлогистическую и не силлогистическую индукцию, впоследствии получивших название «полной» и «неполной» индукции. Только полная индукция рассматривается Аристотелем как формально законный вид вывода; он называет его «силлогизмом через индукцию» и противопоставляет не силлогизму вообще, а лишь силлогизму через средний термин. Трактуя ее как умозаключение по третьей фигуре силлогизма (Darapti), с распределенным средним термином в меньшей посылке, Аристотель приводит следующий пример силлогистической (полной) индукции («Первая Аналитика»):
Человек, лошадь, мул – долговечны.
Человек, лошадь, мул – существа, не имеющие желчи.
Всякое существо, не имеющее желчи, долговечно.
В случае если бы в приведенном примере средний термин в меньшей посылке не был бы распределен, заключение носило бы лишь частный характер («Некоторые существа, не имеющие желчи, долговечны»).
Признавая логическую правомерность и наглядность силлогизма через индукцию, Аристотель, тем не менее, считает, что даже он не может выступать методом научного доказательства: «Тот, кто применяет индукцию, не доказывает, однако все же что-то выявляет» [1, с. 257]. По Аристотелю лишь силлогизм через средний термин может служить средством научного доказательства, а индуктивный силлогизм (полная индукция) таковой не является.
Как полную, так и неполную индукцию Аристотель относит не к логически доказательным, а лишь «диалектическим» рассуждениям т.е. таким, которые содержат в посылках и в заключении лишь вероятное знание, мнение. Основное отличие «диалектических» рассуждений от доказывающих Аристотель усматривает не в характере следования заключений из посылок (не только в доказывающих, но и в диалектических рассуждениях заключение может следовать с необходимостью из посылок), а в характере истинности исходных посылок. Доказывающие рассуждения он определяет лишь как такие, в основе которых лежат необходимо-истинные положения.
Доказательство есть силлогизм из необходимых посылок» [1, с. 187]. Знание же об отдельных чувственно воспринимаемых фактах, составляющее содержание посылок индукции, всегда ограничено рамками определенного частного опыта, а потому не может быть рассмотрено как необходимо-истинное, но только как вероятно-истинное. Индуктивные рассуждения, считает Аристотель, способны выполнять в познании лишь функцию подтверждения научных обобщений, функцию «диалектического» обоснования их истинности. Подчеркивая принципиальное отличие аристотелевского подхода к логическому анализу индукции от подхода индуктивистов XVII–XIX вв., П. Лейкфельд справедливо отмечает: «Аристотель далек от того, чтобы искать опоры для индуктивного заключения в том или ином общем принципе, наперед а priori принятом (хотя бы вообще в принципе единообразного устройства природы)» [14, с. 24].
Один из видных исследователей в области индуктивной логики Генрик фон Райт так резюмировал специфику аристотелевского подхода к исследованию проблемы индукции и его вклад в ее разработку: «Исследование Аристотелем индукции в конечном счете связано с основаниями его логики и теории познания. Это делает трудным связывать его с современной дискуссией... Аристотель был первым, кто указал на недемонстративный характер того типа вывода, который мы исследуем под именем индукции, и на противоположность его заключающему рассуждению. Эта противоположность, однако, затемнялась его собственной терминологией» [21, р. 151].
Осознание Аристотелем проблематичного характера индуктивных выводов с особой силой ставило перед ним вопрос: каким образом могут быть получены необходимо-истинные положения? Вслед за Платоном Аристотель исходил из того, что только необходимо-истинные положения составляют науку и предмет науки: «Предмет науки и наука отличаются от предполагаемого и мнения, ибо наука есть общее и основывается на необходимых положениях» [1, с. 245]. Ответ на этот вопрос был жизненно важным не только для обоснования Аристотелем возможности построения целостного научного знания, но и для его понимания предмета и задач логики. Ведь если такие необходимо-истинные положения не могут быть никогда получены, то не существует и доказательства в аристотелевском смысле, а силлогизм есть не более чем средство диалектики, имеющей дело с обоснованием или опровержением возможно-истинных суждений, но не орудие получения объективной истины. В подавляющем большинстве случаев, считает Аристотель, необходимо-истинные положения получаются силлогистическим путем из других необходимо-истинных суждений. Однако он прекрасно осознает, что такой процесс не может быть бесконечным, «ибо не может существовать доказательства для всего» [2, с. 46], и, утверждая только этот способ получения знания, мы должны, в конце концов, прийти к выводу о невозможности науки и доказательства.
Выход из этого положения Аристотель видит в признании существования недоказуемых, но при этом необходимо-истинных «начал» знания. Ход рассуждения Аристотеля таков: если научное знание вообще возможно, то должны существовать и не доказываемые, но необходимо-истинные первые принципы знания. Факт научного знания несомненен, следовательно, должны существовать и необходимо-истинные начала знания. «Первичное нам необходимо познавать посредством индукции, ибо таким именно образом восприятие порождает общее» [1, с. 288]. Тем не менее индукция лишь необходимое, но недостаточное условие постижения разумом «начал» знания. Индукция, утверждал Аристотель, лишь подготавливает разум к восприятию («созерцанию») недоказуемых начал знания, истинность которых разум усматривает непосредственно. Как отмечал В.Ф. Асмус, «…усмотрение таких, последних, или высших, принципов может быть, по Аристотелю достигнуто только с помощью непосредственного усмотрения ума, умозрительного созерцания или, как это назвали впоследствии, посредством "интеллектуальной интуиции"» [5, с. 274, 275].
Обращение Платона и Аристотеля к интеллектуальной интуиции как источнику истинного научного знания неслучайно. Оно тесно связано с самой постановкой ими вопроса об истинности знания как чисто теоретического вопроса. Обращаясь к интеллектуальному созерцанию как источнику истинности высших и недоказуемых начал знания, и Платон и Аристотель не отрицали при этом необходимости индукции в научном познании, рассматривая ее как необходимое условие (путь) получения таких начал. Более того, трактуя индукцию, как имеющую недемонстративный характер, они, по существу, правильно решали проблему индукции. Подчеркивая проблематичный характер индукции, Энгельс в свое время справедливо отмечал: «Индуктивное умозаключение, по существу, является проблематическим» [16, т. 20, с. 542]. Однако в условиях созерцательности и умозрительности античной науки вывод о проблематичном характере индукции нередко рассматривался и использовался как аргумент для принижения возможностей опытного познания и обоснования такого подхода к познанию, который выражался в поисках различного рода интеллигибельных принципов. Особенно резко эта тенденция проявилась в теоретическом мышлении средневековой эпохи, когда умозрительное познание приняло крайне уродливую форму, получившую в истории познания весьма нарицательное название – «средневековая схоластика». И только мыслители Нового времени вновь по достоинству оценят важную и необходимую роль индуктивного метода в научном познании.