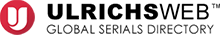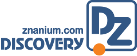с 01.09.2015 по настоящее время
Таганрогский институт управления и экономики
с 01.09.1999 по настоящее время
Россия
В статье исследуются различные аспекты национального политико-правового менталитета: содержательно-структурные, методологические, культурологические, религиозные, функциональные и др. Авторы работы не только выделяют природу и особенности отечественной правовой (политико-правовой) ментальности, выявляют ее основные функции, показывают место и значение в российском государственно-правовом пространстве, но и преломляют основные теоретические наработки через призму малоизученных в современном правоведении старообрядческих политико-правовых идей, духовная составляющая которых чрезвычайно интересна и во многом показательна для изучения актуальной в настоящее время проблемы правового менталитета, политического менталитета, правового сознания, правовой культуры переходного периода развития государства и права в России начала XXI в.
правовой менталитет, старообрядцы, монархия, государственная власть, государство, достоинство, религия.
1. Правовой менталитет: теоретико-методологический экскурс
Наверное, трудно спорить с тем, в современном правовом познании нет более сложной и в то же время более привлекательной для разного рода исследований актуальных вопросов государственного строительства и модернизации национальной правовой системы, чем категория «правовая культура», тем более, когда научному изучению подвергается период, связанный с разного рода (правовыми, политическими, духовными, экономическими и др.) преобразованиями. Чаще всего, обращаясь к таким эпохам, отечественные, да и многие зарубежные правоведы ставят вопрос о динамике, изменениях в сфере национальной правовой культуры, общественного правового сознания. В редких случаях в поле зрения исследователей попадают глубинные аспекты политико-правового мира, к которым, несомненно, относится и правовой (иногда его рассматривают шире – политико-правовой) менталитет, юридические архетипы и т.п. [1, 2, 3].
Причинами такого рода устоявшейся познавательной традиции выступают все еще действующие советские эвристические схемы, в рамках которых, разумеется, ставились иные (собственно, вненациональные) акценты (классовые, социально-экономические), и явно недостаточный уровень (несмотря на все количество статьей на тему «менталитета», «ментальности» разных специалистов современной гуманитарной сферы) осмысления природы национального менталитет и его различных проявлений (правового, экономического, политического). Во многом это связано с поиском российскими юристами неких «общечеловеческих» правовых принципов, институтов, норм, которые следует «просто» «продавить» в ткань нашей правовой и политической системы, и желаемая цель – формирование правового государства и гражданского общества – будет достигнута при минимальных собственных интеллектуальных и организационных усилиях (российский либерально-правовой дискурс образца 1990-х годов). Правда, результативность такого подхода и его социально-правовые, духовные и иные издержки оказались велики и, похоже, что непредсказуемы для представителей либеральной реформаторской стратегии, многие из которых недооценили то, что «…никакая, даже самая совершенная конституция не создаст нового общества в России. Для этого нужно, прежде всего, кардинально изменить российский менталитет…» [4. С. 11]. Другие действительно верили в возможность такого «кардинального изменения» российского менталитета, да еще и в короткие сроки.
Конечно, в это же время в российском правоведении начинает формироваться и другой подход к пониманию содержания и практической значимости национального правового менталитет, его влияния на стратегию и тактику политико-правового реформирования в постсоветской России. Так, несомненный интерес с точки зрения «проникновения» в метод ментального измерения права и государства представляют постановочные аспекты концепции отечественного правового менталитета, предложенные В.Н. Синюковым в работах «Российская правовая система. Введение в общую теорию» и «Правовая система: вопросы правореализации», в которых проблема национальной правовой ментальности «проходит» через поиск глубинного и подлинного источника идентификации правовых отношений – жизненного уклада народа (норм, воззрений, идеалов, культов, обыкновений и др.) [5, 6].
В первой из указанных работ автор делает интересный и методологически оправданный исторический срез проблемы: рассматривает эволюцию отечественного правового менталитета от славянофилов и П.Я. Чаадаева до современного «сумбура реформаторских действий и хаоса власти», не предлагая, однако, явного определения правовой ментальности и принципиально ограничиваясь исключительно контекстуальными дефинициями. Наверное, следует восполнить данный пробел: правовой (политико-правовой) менталитет есть совокупность (система) правовых архетипов и представлений, устойчивых, привычных образов, форм и стиля юридического мышления, которые в разных социумах, этносах, типах цивилизаций и т.п. имеют собственное содержание, различным образом сочетаются, но всегда лежат в основе восприятия компонентов национальной государственности (юридических и политических институтов, национальных и конфессиональных отношений и др.), определяют специфику правового поведения индивида, тех или иных социальных и профессиональных групп, государственных органов и должностных лиц.
Правовой менталитет определяет совокупность готовности и предрасположенности индивида действовать, мыслить, чувствовать, воспринимать различные явления, оценивая их в качестве положительных или отрицательных, в государственно-правовой сфере; предполагает соединение когнитивного и ценностного мотивов правомерного или неправомерного поведения субъектов. В сущностном аспекте (не замыкаясь на психическую природу рассматриваемого явления) правовой менталитет следует изучать, выделяя его национальные архитектонические элементы (политико-правовую парадигму, стиль юридического мышления, типа социально-правового и «предправового» взаимодействия субъектов), что, несомненно, позволит перейти к осмыслению его социокультурной, национальной природы. Вполне очевидно, что «правовая ментальность как сложное явление отражается во всех элементах структуры правосознания и раскрывается в специфике правопонимания, правочувствования, правовидения» [7. С. 290].
При более или менее скрупулезном рассмотрении становится очевидным, что правовой менталитет – это полиструктурная открытая динамическая система, включающая разноуровневые отношения между собственными элементами, иными социальными системами и находящаяся в постоянном (хотя часто и незаметном) развитии. Природное и культурное, рациональное и эмоциональное, сознательное и бессознательное, индивидуальное и общественное – все эти оппозиции неизбежно «пересекаются», определенным образом актуализируются на уровне политико-правового менталитета, растворяясь в его структурах. Объединяя логические и чувственные, ценностно окрашенные и иные воззрения, менталитет выражает образ, характер, способ группового и индивидуального юридико-политического действования, во многом определяет вектор и специфику мыследеятельности участников соответствующих социальных практик, влияет на формирование и изменение властных стратегий и тактик в определенном обществе и государстве.
С позиций системно-структурного подхода, исходя из природы рассматриваемого явления, наиболее продуктивно и методологически оправданно представить правовой менталитет как систему непрерывно взаимодействующих между собой структурных элементов. В результате возникают разнообразные свойства, характеристикинационального правового менталитета – «законнический» (формально-юридический), толерантный, харизматический, динамический, характеризующийся правовым нигилизмом либо правовым идеализмом и т.д., а также выявляется специфика регулирующей роли, которую играет правовой менталитет в процессах правореализации и правотворчества, его влияние на поведение личности, социальных или национальных групп, классов, всего населения страны.
Интересна связь правового менталитета с национальным языком, имеющим место в конкретной стране логико-лингвистическим дискурсом. Язык – это значительный феномен культуры, он отлично выражает, сохраняет и особым образом стандартизирует национальное миропонимание, определяет способ осмысления действительности, в том числе и в области государственно-правовых отношений. О том, что юридический язык всегда сообразен стилю юридического мышления, имманентного национальной государственно-правовой парадигме, упоминать просто банально. Например, в западном философско-правовом и политическом дискурсах домакиавеллевского периода просматривается вполне определенная логико-семантическая позиция в отношении смысла и значения понятия «государство». В частности, древние греки использовали в данном значении слово «polis», а римляне – категории «res publice», «civitatis». Скорее всего, именно выражение «stаtus rei publice» и подобные ему, например, «stаtus rei romanae», которые были распространены в античности, в итоге трансформировались в более позднее по своему возникновению (начало–середина XVI в.) понятие «государство» (stato, staat, etat, state).
Кристаллизация античных представлений о государстве в языке и учреждениях, различного рода государственных функциях и установлениях естественным образом предопределила и содержание греко-римских политических доктрин. «Аристотель воспринимает государство как коллективность особого рода, возникшую ради потребностей жизни, но существующую как самодовлеющее состояние ради достижения жизни благой» [8. С. 58]. Во многом следуя тем же традициям, Цицерон определяет государство как «дело народа», людей «связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов», это «общий правопорядок». Античные философско-правовые (отраженные в языке) конструкции в той или иной мере позже использовали Фома Аквинский, Марсилий Падуанский, Г. Гроций, Дж. Локк, И. Кант, и др. Ж. Маритен пошел еще дальше. По его мнению, наиболее подходящим переводом таких категорий, как πόλις или civitas, «были бы «гражданское общество» (commonwealth) или «политическое общество», но никак не «государство» [9. С. 37].
В отношении отечественного ментально-языкового дискурса, имеющего место в политико-правовом поле, интерес представляет подход О. Хархордина, посвятившего проблеме «языкового» оформления понятия «государства» сборник статей «Понятие государства в четырех языках» [10]. По его мнению, «триада «правитель – государство – подданные», центральная для нововременного понятия государства, в России была сформирована в два этапа. Так, сначала на уровне политико-правового мышления (его стиля) происходит различение между персоной «правителя» и собственно «государством», понимаемом теперь чаще всего как «Отечество», т.е. сообщество, основанное отчасти на кровнородственных связях, переродившихся в особую связь с «Землей», на общем историко-культурном происхождении и образе жизни, включающем, прежде всего, духовно-религиозную основу (в народном обыденном мировосприятии это первенство сохраняется вплоть до 1917 г., элитарное осознание собственных религиозных, духовно-социальных основ подвергается серьезным испытаниям в период петровского реформирования и в последующие столетия имперского государственно-правового бытия). «Личное служение государю постепенно стало пониматься как служение стране или, лучше сказать отечеству (такая ситуация достаточно очевидно просматривается в Смутное время. – А.М., Т.М.)…» [10. С. 174]. В этом контексте можно понять глубинные причины того, что в России возникла «традиция… государственной службы и что до середины XVII в. она все еще называлось государевой службой» [10. С. 176].
На втором этапе «решающее изменение в дискурсе происходит в эпоху Петра Великого, когда вводится понятие общего блага и предпринимается попытка (в итоге неудачная. – А.М., Т.М.) наиболее радикальным образом дистанцировать персону государя от общности под названием государство… Иерархия, существовавшая в русской средневековой идее государства: царь служит богу – народ служит царю, сменилась (?!) новым соотношением: и царь, и подданные служат Отечеству, «общему благу» государства» [10. С. 177].
Современный логико-языковой и доктринально-концептуальный (обращение к разного рода российским политико-правовым учениям) анализ убеждает в том, что в русском языке слово «государство» является производным от категории «государь», что, несомненно, выражает некоторый образ данного института публичной власти, обозначает его место и роль в социально-политическом и правовом пространстве, персонифицирует политический организм, утверждает отношения господства, подчинения, служения и т.п. В истории России (как это отчасти показано выше) ни фактически, ни юридически государство в античном, евро-американском варианте его организации не существовало, соответственно, и не воспринималось ни массами, ни элитой в качестве политической ассоциации, равномасштабной обществу и уж тем более ему противостоящей.
Вотчинное происхождение и особая, патримониально-патерналистская сущность российского государства приводит многих сторонников унификации политико-правовых укладов по западному «образу и подобию» к мысли о выходе этого сложного социально-политического явления за рамки публично-правового универсума понимания (видения). Оно начинает восприниматься в следующей коннотации: государство – это неограниченный властитель и собственник земли, людей и предметов на собственной территории. Напротив, английское «state» или французское «ľ etet», по их мнению, принадлежит публично-правовому универсуму рассуждений, отражает политическое состояние общества в качестве единого (динамичного) консолидированного субъекта, его особый статус, организованность и упорядоченность в рамках правового поля.
С представленной семантикой категории «государство» и соответствующей его (разумеется, в отечественной модели) аналитикой вполне согласуется и русское понятие «правительство», восходящее своими корнями к слову «правитель» и более близким – «господство», «властитель», нежели английскому «government» или его французскому эквиваленту «gouvernement», означающим просто «управление», «система управления». И теоретически, и методологически, и (как показывает время) практически оправданно уточнить и изучить смысл и значение ряда важных юридико-политических концептов, причем, рассматривая их в качестве выражения, экспликации особой данности, самодостаточной, самоценной, отражающей единство духовной, политической и правовой жизни российской цивилизации, не ограничиваясь (как это, например, было в правоведении 1990-х годов и имеет место сейчас) интерпретацией исключительно западной понятийной версии «государства», «самодержавия», «абсолютной монархии», «правительства», «общества», «права», «закона» и др.
В свете идущих в настоящее время процессов постепенного возвращения России исторически органичного ей (по крайней мере, со времен Ивана III) имперского статуса возникает интерес к пониманию смысла и содержания категории «империя», но не в западной транскрипции, а в отечественной философско-правовой и политико-правовой мысли, т.е. в российском юридически-языковом и политико-языковом дискурсе. Поэтому в специальной литературе все чаще приводятся различные позиции в отношении этого, безусловно, важного для прошлого и современного государственно-правового строительства, понятия. И.А. Ильин, Н.Н. Алексеев, И.Л. Солоневич, Л.А. Тихомиров, М.О. Меньшиков и другие представители русской политико-правовой классики неоднократно обращались к логико-понятийному анализу «империи» и проводили его в широком социально-культурологическом контексте. Так, М.О. Меньшиков писал: «Слово imperium на родине этого слова всегда понималось как верховная государственная власть, то есть именно то самое, что понимается под русским словом царство или государство… Если Россия еще сколько-нибудь держится как империя, то лишь постольку, поскольку она остается царством… Как только Россия перестанет быть царством в древнем и вечном значении этого слова, так и расползется по швам. У нас не любят вдумываться в употребляемые поминутно слова и титулы…» [11. С. 182, 183]. И.Л. Солоневич подробно останавливается на содержательном аспекте имперско-монархической организации властных отношений в России: «Московская монархия была по самому глубокому своему существу выборной монархией. С той только разницей, что люди выбирали не на четыре года и не на одно поколение, выбирали навсегда… Итак, если термин конституционная демократическая монархия мы переведем на русский язык – соборная и народная монархия – и если в этот последний термин мы вложим его русское содержание, такое содержание, каким эта монархия была наполнена в действительности – хотя и не всегда, – то мы, вероятно, избавимся от недоразумений и по поводу конституции, и по поводу демократии» [12. С. 125]. Именно этот аргумент (как один из весомых в понятийно-языковом контексте) является базовым для построения И.Л. Солоневичем своей оригинальной концепции «народной монархии» в российском политико-правовом поле.
Возвращаясь на теоретико-методологические «рельсы» рассмотрения природы и значимости национального правового менталитета и обобщая все вышесказанное, можно выделить несколько его основных функций.
1. Познавательно-преобразовательная связана не только с накоплением определенной суммы знаний о специфике образных, устойчивых (архитектонических) элементов национальной юридической среды и их разнопорядковых проявлений (от правовых стереотипов, ценностей и установок до организации и характера юридической деятельности, политико-властного пространства и т.п.), но и с соответствующей такому пониманию деятельностью по формированию органичного правоментальным особенностям социума государства, политической и правовой систем, механизма правового регулирования и др. Именно эта функция позволяет говорить об актуальном в современной России историко- и теоретико-правовом просвещении – овладении смыслом, скрытыми в глубине веков, в «недрах» отечественного этно – социального мира «кодами», матрицами и схемами государственно-юридического регулирования.
2. Праворегулятивная и интеграционная направлены на обеспечение устойчивого, отлаженного правового уклада общества в целом, социальных групп (классов, страт), семей, отдельных индивидов, регулирование их взаимоотношений. Присущие национальному правовому менталитету идеалы, традиции и образцы поведения, способы осмысления юридико-политической сферы могут служить основой оформления и длительного существования (в силу идентичности стиля юридического мышления, совпадения содержания иных ментальных структур) разнопорядковых социальных общностей (нации, народности, цивилизации, племена и др.), достижения общественного согласия, способствовать консолидации различных социальных групп и слоев граждан, концентрации их усилий на формировании адекватного национальным интересам, потребностям человека и общества государственно-правового пространства.
3. Оценочная функция правового менталитета выражается через совокупность эмоционально-аксиологических характеристик индивида, социальных групп, общества. Она проявляется в разнообразных фактах, отражающихся в сознании и поведении индивидов и их групп, связанных с оценкой, соответствующим ей эмоциональным отношением (осознанном и/или неосознанном, как в конкретной ситуации, так и вообще) субъектов к тем или иным элементам правовой и политической жизни. Все составляющие национальной юридической и государственной действительности выступают объектами оценки. Следует говорить о ментальных ценностях в праве и о самом праве как ценности.
4. Кумулятивно-охранительная и трансляционная функции предполагают постоянное прибавление (правда, за весьма длительный период исторического времени), увеличение этноправовой информации на уровне архитектонических структур (в неразрывной связи рациональных и иррациональных компонентов) при сохранении (для последующих поколений) уже имеющейся. Накопление, естественно, просматривается и на уровне правоментальных проявлений: пусть очень долго и не всегда позитивно, но все же возникают (формируются или заимствуются) новые правовые ценности, установки, символы, ритуалы, стереотипы и т.п., которые так или иначе коррелируют с имеющей место в определенную эпоху в конкретном социуме или типе цивилизации социально-политической и духовной ситуацией (культурным сценарием). Известная схема: от поколения к поколению… да еще и с удивительной настойчивостью.
5. Социализирующая функция охватывает область общей индивидуальной социализации и инкультурации как приобщение индивида к национальному социально-правовому опыту. Последний как совокупность накопленных в ходе исторического развития общества и государства духовно практических знаний, умений, навыков в правовой сфере сохраняется в мнемонических структурах общественного правосознания. Личность оказывается вовлеченной в сложный процесс освоения устоявшихся в социуме стандартов правового (правомерного или неправомерного) поведения. Кроме этого, происходит развитие мотивационных структур как внутренних гарантов, обеспечивающих соблюдение индивидами или социальными группами существующих правовых предписаний, т.е. мотивационная и поведенческая адаптация индивида в конкретной государственно-юридической среде. Конечно, в случае явного расхождения создаваемых законодателем норм позитивного права с зафиксированным на ментальном уровне социально-правовым опытом, с содержанием правоментальных проявлений процесс социализации индивидов оказывается чрезвычайно противоречивым и малорезультативным. В рамках социализирующей функции правового менталитета следует выделить его функции по стабилизации и консервации правового сознания. Юридическая стационарность правосознания зависит от качественного состояния национальной правовой ментальности. Основными институтами, осуществляющими процесс правовой социализации новых поколений, выступают семья, община, образование и наука, общество в целом, государство и т.п.
6. Прогностическая (проспективная)функция включает анализ тенденций, перспектив развития национальной правовой (политической) системы. Это представляется особенно важным в переломные или кризисные эпохи (реформы, революции, военные поражения и т.п.). Учет содержания архитектонических структур правового менталитета, правоментальных проявлений, несомненно, относится к необходимым элементам подлинно научного прогнозирования и планирования в правовой сфере. Например, данная функция может и должна отразиться в законодательной деятельности, когда речь идет о логике и последовательности разработки, содержании, принятии соответствующих нормативно-правовых актов. Интересны также вопросы о факторах эффективности действия норм права в социуме, о соотношении юридической и фактической конституции1 и др.
2. Старообрядцы XVII в.: политико-правовая ментальность эпохи духовного излома
В истории российской государственности можно выделить несколько переломных эпох, сопряженных с разного рода радикальными, коренными поворотами течения русской жизни, с изменениями в политико-правовой, социально-экономической областях жизнедеятельности, а также (что часто было значительно тяжелее и по ходу «модернизации», и по ее последствиям) в духовно-религиозном поле. Можно вспомнить о разрушительных последствиях Смутного времени на рубеже XVI–XVII вв., когда страна не просто пережила период хаоса и развала всей системы государственной власти и управления и, по сути, уже перестала существовать в качестве «геополитической реальности» (Московию уже «стирали» с европейских географических карт), но и породила особый во многих отношениях тип русского человека – «человека смутного времени», часто отличающегося новыми ценностными ориентирами, деформированным право- и законосознанием, отношением к «Воле» (свободе, в западной транскрипции) и т.п.
Можно вспомнить, что именно начиная с эпохи Смутного времени, становится ощутимым (имеющий место и в настоящее время!) «разрыв» столицы и провинции в России, так как в это время на уровне народного (общерусского) самосознания формируется ранее не виданный образ Москвы как «скопища предателей», помогавших интервентам уничтожать и отечественную государственность, и Русскую православную церковь, и сам русский этнос. В целом же на рубеже XVI–XVII вв. имело место «искоренения древних навыков» и «унижения россиян в собственном их сердце», что вызвало протест, но не в столице, а… в русской провинции, где, собственно, и сформировалось представление о стране как «Отчизне», для спасения которой и возникают (без какого бы то ни было государственного вмешательства, на уровне, как сказали бы сейчас, «институтов гражданского общества», имевшего в Московском государстве исключительно соборные формы существования и выражения) «советы Всея Земли, например, в Ярославле и других городах.
Выйдя с достоинством из Смутного времени, восстановив и в значительной мере укрепив систему государственной власти, воссоздав нарушенную в Смуту «симфонию» духовной и светской власти, искоренив духовные пороки среди населения и элит, к середине XVII в. государство входит в новый, но теперь уже исключительно духовный (идеологический) излом – церковный раскол. «Значение Раскола в русской истории определяется тем, что он являет собой видимую отправную точку духовных нестроений и смут, завершившихся в начале XX века разгромом русской православной государственности…» [14. С. 205]. Однако, по мнению митрополита Иоанна, «как явление русского самосознания, Раскол может быть осмыслен и понят лишь в рамках православного мировоззрения, церковного взгляда на историю России» [14. С. 212]. Видимо, речь здесь идет о собственно религиозной (канонически-обрядовой) стороне церковного раскола, поэтому (не претендуя на глубокое православно-сущностное постижение раскола), выделим и постараемся осмыслить его государственно-правовые и социально-политические проявления, тем более что «старообрядец на самом деле есть очень новый душевный тип» [14. С. 214].
В поисках оснований церковного раскола середины XVII в. выделим базовые правовые, политические и духовные практики, определившие «лицо» рассматриваемых здесь событий.
1) С середины XVII в. Московское царство (пережившее Смуту, которая в политико-правовом аспекте получила выражение в кризисе русской монархии и, как следствие, в десуверенизации отечественной государственности) начинает укрепляться на евразийском пространстве (присоединение Украины, возврат Смоленска и других русских городов на западной границе страны, освоение Восточной Сибири и т. п.).
2) Политико-правовой формой «евразийского освоения» Московского государства стала (что было неизбежно для страны) империя, точнее, православная империя, единственное (после падения Константинополя и турецкой экспансии на Балканах и иных частях Европы и Азии) на тот исторический момент подлинно суверенное православное государство, развивающееся в консервативном, традиционном духовном пространстве, скрепленном особой православно-мессианской идеей («Москва – третий Рим», при патриархе Никоне «Москва – второй Иерусалим»).
3) В период правления царя Алексея Михайловича вновь был «вызван к жизни» известный еще с конца XV – начала XVI в. (в споре между нестяжателями и иосифлянами при Иване III) конфликт между духовно-религиозным мировоззрением «Святой Руси» (святоотеческим церковным преданием) и православной идеологией формирующейся Православной империи. В середина – второй половине XVII в. он приобрел более острый характер и, соответственно весьма жесткие формы выражения, чем ранее, и в итоге привел к церковному расколу. Раскол в Русской православной церкви XVII в. неверно сводить исключительно к желанию части клира и мира сохранить сущностно-обрядовую сторону отечественного православия (продолжать следовать канонам, заповедям Стоглавого Собора, церковному преданию святых отцов), так как это лишь поверхностный взгляд на проблему. При более глубинном проникновении раскол являет собой в принципе ожидаемую в то время реакцию на страх потерять сохраненную даже в период Смутного времени национальную религиозную идентичность, а значит, и все иные (теснейшим образом сопряженные с первой) виды «идентичности»: правовую, политическую, социально-экономическую. Напротив, сохранение собственного духовного «лица» рассматривалось старообрядцами в качестве надежной гарантии сохранения и ментально привычного, принятого и освященного веками государства, различных институтов монархической власти (помилования, «челобитья государю» и др.), православной правовой системы, особого монастырского статуса и образа жизни, семьи, быта и т.п. Такого рода «страхи» были небезосновательны, например, ранее «никто не был ограничен в праве подать лично царю челобитную с просьбой о какой-нибудь милости, с жалобой на любой судебный приговор или любой действие приказных, на обидчиков вообще… Московские цари долго не делают попыток ограничить его, даже тогда, когда с ростом государства оно стало для них очень обременительным. Впервые в Уложении 1649 г. было постановлено: «Не бив челом в приказе, ни о каких делах государю никому челобитен не подавати (X гл. 20 ст.)»» [15. С. 50–51]. По большому счету, этот (как и многие другие) государственно-правовой институт был выражением содержания русского правового менталитета «святоотеческой» (дониконианской) эпохи, определял специфику юридического и социального диалога между самодержавием и народом («Землей»).
В таком социальном, духовном, государственно-правовом контексте закономерно возникает вопрос об особенностях политико-правового менталитета старообрядцев как носителей протестного самосознания, в частности о его оценочно-содержательной стороне (естественно, при сохранении структуры и функций). Важно выяснить ряд ключевых аспектов старообрядческого правоментального и духовного бытия, а именно проблему сохранения достоинства человека как полноценного субъекта национальной религиозной и политико-правовой жизни и во многом производное от нее отношение этих «раскольников» (в никонианском контексте), а точнее «расколоучителей», к монархическому институту, фигуре царя, самодержца, иным институтам государственной (светской) власти, т.е. их представление о легитимности христианского самодержца. Конечно, «нелепостью было бы навязывать учреждения, к которым он не пришел в своем собственном развитии. То, что своевременно во внутреннем духе, происходит безусловно и необходимо. Государственный строй – дело состояния этого внутреннего духа…, а мышление – основа права и государственного устройства вообще» [16. С. 383, 392]. В этом плане (следуя методу историзма) следует учитывать специфику духовного пространства эпохи XVI–XVII вв., в которой сформировалась уникальная культура «подобия» (начало положено в XVI в.), когда обращение «преподобный» означало «подобный Христу» (правда, Иван IV считал себя «подобным Богу-Отцу», самому Саваофу, в чем видел особую легитимность своих репрессивных деяний), а «уровень благочестия русской жизни XVII в. был чрезвычайно высок даже в ее бытовой повседневности» [14. С. 212]. Такое состояние «духовных дел» чаще всего было непонятно многим иностранным исследователям отечественной государственности, а потому возникала иллюзия (имеющая место и у современных западников, либералов), будто в России был просто утрачен праводостойный субъект, он «потерялся» в лабиринтах генезиса российской социально-правовой действительности, его «забыли» на сложных перекрестках развития российского государства и права, отдав предпочтение другому, более важному и ценному – «державности», «соборности», «государю».
Однако обращение к русской старобрядческой (протестной) политико-правовой ментальности, выраженной в немногочисленных в то время сочинениях, убеждает в обратном, а именно в том, что этот обоснованный (в XVIII в.) И. Кантом (чьи социально-философские идеи попали в число основополагающих либеральных юридических и иных мотивов) «статус самоценности» человека как абсолютное начало всякого подлинного гуманизма имел место и в старообрядческом религиозно-политическом дискурсе. Правда, форма его подачи, язык и способы обоснования, безусловно, были иными, в частности, не связанными с хорошо известной в европейски-просвещенческом пространстве теорий о естественных правах человека.
Чтение сочинений протопопа Аввакума, романово-борисоглебского священника Лазаря, дьякона Игнатия Соловецкого, дьякона Федора (Иванова) и других убеждает в том, что в этих трактатах («Житиях», «челобитных грамотах») имеет место не только повышено «напряженный» тон, но и последовательное утверждение права каждого христианина на отстаивание истины и его (даже не права) долга, особой духовной обязанности не подчиняться Верховной власти, когда ее предписания очевидно противоречат «древнему благочестию» как незыблемой основе русского («святоотеческого») мира вообще, политико-правового мировоззрения и религиозного миросозерцания русских, православных людей в частности. Так, Лазарь, обращаясь с челобитной к царю Алексею Михайловичу, пишет: «Похвалитися не полезно ми есть. Вем, яко скверен есть… но закон чист. Аз грешен есмь; но отцы и братия святи суть… Аз же ничим осла хуждши есмь. Аще и грешен есмь, но верю правою раб есмь Сына Божия» [17.С. 264]. Итак, перед царем, понимаемым старообрядцами, несмотря на все их гонения и притеснения, в традиционном отечественном духе, а именно как сакральную политико-правовую ценность особого (для страны) значения, они признают себя грешными, причем, как в религиозном смысле понимания «Греха», так и в светско-юридической его трактовке – «земное» преступное деяние, но достоинство свое сохраняют, так как видят его в сохранении «правой веры» перед более «высоким Государем» – «царем небесным». Именно это нерациональное, но отчетливо выраженное христианско-православное (а не вообще религиозное) достоинство и рассматривалось сторонниками дониконианского отечественного православия в качества права, во-первых, на личное обращение к царю; во-вторых, на предъявление русскому самодержцу весьма серьезных претензий; в-третьих, на открытое неповиновение решениям царской власти и церковных соборов (например, знаменитого Собора 1667 г., положившего «клятву» на всех «раскольников).
Обобщая вышеизложенное, заметим, что в собственно правовом контексте того времени старообрядцы выделяли себя из русского общества как единственных носителей «Правды». (Термин «право» в отечественном монархическом пространстве появляется только в ходе реформ Петра I и его содержание и смысл все же отличаются от привычной для нашего самосознания «Правды».) Еще начиная с трактата митрополита киевского Иллариона «Слово о Законе и Благодати», понятие «правда» включает такие социальные и ценностные характеристики, как нравственность, истина и справедливость (божественная и земная). Ясно, что «сплав» этих категорий и был серьезным мотивом для утверждения старообрядцами своей духовной и иной исключительности.
Какое отношение у этих достойных и поэтому сохраняющих право на «праведный» протест (это особое право детально изучали и по-разному оценивали Т.Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье и другие западноевропейские исследователи XVII–XIX вв.) русских людей было к институту царской власти? Сохранили ли они то, что, по мнению многих иностранцев и того времени, и современников, сейчас можно назвать «холопской ментальностью» или «холопским отношением к власти», тем более что, например, Дж. Флетчер, лично посетивший Московию XVI в., отмечал: «Правление у них чисто тираническое: все их действия клонятся к пользе и выгодам одного царя и, сверх того, самым явным и варварским образом» [18. С. 35].
Отвечая на этот, безусловно, сложный и далеко неоднозначный вопрос, следует кратко остановиться на одной правоментальной особенности русских, определяющей стиль их правового и политического мышления. Последняя была замечена еще в XIX в. и получила следующую формулировку: «Таким путем получаются два народных типа: один, нуждающийся в Самодержавии духовном и не терпящий его в области политической: это Запад эллино-римской культуры; и другой – Восток с Россией во главе, твердо стоящий за самодержавие гражданское, но не терпящий никакого властного вмешательства в дела духа и даже почти не понимающий такового» [19. С. 122]. В политико-правовом и аксиологическом измерении содержания старообрядческого мышления имеет место отстаивание своего права на «республику в области духа» при сохранении «самодержавия государственного».
В таком контексте вряд ли следует соглашаться с представителями советской историографии в том, что противостояние «расколоучителей» пагубной никонианской «книжной справе» и всему тому, что за этим потом последовало, в том числе и при прямом участии русского самодержца, имеет «антицарский» и даже «антифеодальный» характер. Это, очевидно, позднее «наносное» мнение своими корнями уходит в народнические идеи о церковном расколе как движении «противогосударственном» и не имеет ничего общего с действительностью, более того, иногда выражается в весьма курьезных суждениях (например, что «Житие» протопопа Аввакума якобы вообще носит «антирелигиозный» характер» [20. С. 384].
В рамках современного культурологического дискурса с использованием герменевтических «понимающих» (а не объясняющих) эвристических конструкций проблема видится иначе: никакие «царистские иллюзии» даже после разгрома Соловецкого восстания в старообрядческой среде не исчезли (как отмечает в своем исследовании О.В. Чумичева [2. С. 125]). Чтобы представить это, нужно просто поверить в принципиальную возможность «перезагрузки» национального монархического политико-правового менталитета, а это невозможно по определению, по самой природе последнего и формулировке его функций.
Речь шла о другом. Во-первых, в своем «Исповедании» Игнатий Соловецкий сравнивает русских царей-«никониан» с византийскими императорами-иконоборцами, после которых к власти пришли «праведные» императоры, уничтожившие «ересь». В этом плане институт монархической власти оказался «спасительным», поэтому осуждать следует не его («порождающего» и «праведных царей»), а только личность и конкретные деяния конкретного, правящего в определенный исторический момент царя (императора и др.). Во-вторых, возможно (это требует дополнительного прояснения), что Аввакум первым в отечественном (допетровском) государственно-правовом дискурсе заговорил о нормативных «пределах царской власти» – «…в коих правилах писано царю церковью владеть и догматы изменять и святая кадить? Только ему подобает смотрить и оберегать от волк, губящих ея, а не учити как вера держать и как персты слагать…» [22], не утверждая при этом необходимость отказа от Царя вообще.
1. Мордовцев А.Ю., Попов В.В. Российский правовой менталитет. Ростов н/Д, 2007.
2. Мордовцева Т.В., Попов В.В., Ивченко Е.В. Российская публичная политика в условиях аномии. Ростов н/Д, 2007.
3. Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Манастырный А.В., Тюрин М.Е. Юридические архетипы в правовой политике России. Ростов н/Д, 2009.
4. Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М., 2002.
5. Синюков В.Н., Григорьев Ф.А. Правовая система: вопросы правореализации. Саратов, 1995.
6. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. М., 2010.
7. Поляков А.В. Общая теория права. СПб., 2001.
8. Мамут Л.С. Метаморфозы восприятия государства // Проблемы ценностного подхода в праве: традиции и обновление. М., 1996.
9. Маритен Ж. Человек и государство. М., 2000.
10. Понятие государства в четырех языках: Сб. статей / Под ред. О. Хархордина. СПб., 2002.
11. Меньшиков М.О. Письма к русской нации. М., 2005.
12. Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2003.
13. Лассаль Ф. О сущности конституции // Конституционное право: Хрестоматия / Сост. Н.А. Богданова. М., 1996.
14. Иоанн, митрополит С.-Петербургский и Ладожский. Самодержавие духа. Очерки русского самосознания. СПб., 1994.
15. Веселовский С.Б. Из истории Московского государства в XVII веке. М., 2005.
16. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990.
17. Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1875-1895. Т.4.
18. Россия XVI века. Воспоминание иностранцев. Смоленск, 2003.
19. Хомяков Д.А. Православие, самодержавие и народность. Монреаль, 1982.
20. Гусев В.Е. «Житие» протопопа Аввакума - произведение демократической литературы XVII в. //ТОДРЛ. Т. 14.Л., 1958.
21. Чумичева О.В. Соловецкое восстание 1667-1676. Новосибирск, 1998.
22. РИБ. Т. 39. Стб., 467.