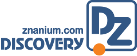Россия
Дискуссия о содержании термина «староцерковнославянский язык» и о его месте в общей системе языков продолжается уже не одно столетие, но её едва ли можно считать законченной. В ХХ в. развитие гуманитарного дискурса во многом определяла светско-научная атеистическая парадигма, чувствительно повлиявшая и на формирование языковедческой традиции в целом и функциональной лингвистической типологии в частности. В фокусе внимания настоящей статьи находятся социолингвистические аспекты этой существенной проблемы славянского языкознания.
староцерковнославянский язык, литургические языки, славянское языкознание, социолингвистическая типология, социолингвистический релятивизм
Социолингвистическое направление в языковедении возникло только в ХХ в., когда сама лингвистика уже оформилась как самостоятельная отрасль научного знания. ХIХ в. стал временем бурного развития сравнительно-исторического языкознания, достижения которого позволили точно определить место славянской группы в индоевропейской языковой семье. Несмотря на то, что историки языкознания условно причисляют к первым славянским компаративистам Ю. Крижанича и М. Ломоносова, по настоящему европейская лингвистика состоялась только благодаря открытию языкового родства в семье индоевропейских народов*.
Первые идеи создания системы языков, «в которой каждый из них занял бы своё определенное место», начали появляться в середине ХIХ в. Известный немецкий лингвист Карл Гейзе в своем фундаментальном труде System der Sprachwissenschaft считал построение такой системы главной философской задачей языкознания (Желтов 1864: 123–187). Но хотя уже в те времена некоторые социолингвистические аспекты осознавались специалистами, это направление ещё не образовалось, поэтому общая система строилась в этнолингвистическом контексте.
Так исторически сложилось, что в определении и номинации языка церкви существует некоторая двусмысленность, обусловленная игнорированием данных социальной стратификации. Большинство специалистов, хорошо понимая разницу между разговорными народными наречиями и литургическим церковным языком, не всегда тщательно обозначали различия между ними. Особенно это характерно для периода, когда социолингвистические представления не были вполне сформированы. Однако и среди современных филологов и лингвистов можно встретить неоднозначность в понимании терминов старославянский и церковнославянский, и по настоящий день существует практика едва ли не отождествления старославянского и праславянского (Ефимова 2011).
По сложившейся в общей палеославистике традиции, язык первых переводов церковных текстов – ѩзыкъ Словѣньскъ – называют старославянским либо древнеболгарским, либо староцерковнославянским, и для прояснения деталей здесь следовало бы, по примеру Женевской лингвистической школы, подробнее рассмотреть отношения между означающими и означаемыми в этом разнообразии номинаций.
Попробовать внести ясность в сложившуюся неоднозначность можно с помощью социолингвистической типологии. Однако, несмотря на то, что исследователи давно отмечают необходимость социолингвистического подхода к рассмотрению этой проблемы (Бернштейн 1941: 99-105), в настоящее время социолингвистические аспекты славянского языкознания едва ли можно считать подробно описанными. В современном российском славяноведении принято называть старославянским язык, возникший во второй половине IХ в. и ставший языком первых литературных памятников – текстов Св. Писания и служебных церковных книг гомилетического и агиографического содержания.
Христианское апостольское Благовестие, бесспорно, стало ключевым фактором и путеводным знаком в формировании европейской культуры в целом, а также существенно повлияло на формирование социальной структуры всех без исключения европейских народов. В свою очередь, равноапостольный подвиг св. Мефодия и Кирилла, небесных покровителей Европы, следует считать основополагающим для её славянской части.
Светская историческая наука, особенно в атеистические времена, ставила акцент в интерпретации этих эпохальных событий, прежде всего, на самом факте обретения славянами письменности и началах национальных литератур. В настоящее время день памяти солунских святых является государственно-церковным праздником, в который светские ученые отмечают появление письменности, а Церковь – своё утверждение как духовный дар и велию милость обращения славянских народов к Христу.
Сложившаяся в историографии традиция представляет славян как племена, впервые обретшие письменность. Однако такая интерпретация исторического процесса упускает из виду один весьма существенный социологический аспект: начала письменности обретают не народы, в современном демократическом понимании, а достаточно узкие социальные группы*, ведь искусство владения словом испокон веков было привилегией жреческих сословий – элит особенного рода, которые обладают властью не через силу, а благодаря Слову, как теперь говорят – мягкой силе. Необходимо отметить, что у славян эта группа образовывалась не по национальному признаку, а строилась на духовной основе, поскольку тексты Нового Завета в принципе лишены национальной ориентации, а предназначены для наднационального социального образования – Церкви как Тела Христова. Образно говоря, сословие православных священнослужителей берет свои начала в очень узком кругу предопределенных свыше голов – свв. Седьмочисленников и их первых последователей, благодаря деяниям которых в славянскую речь вошли богодухновенные истины.
Изучение первых церковных текстов позволяет сформировать представление о структуре средневекового общества и выделяет в социальной стратификации группу «молящих» (Вендина 2002). Для процесса формирования языка церковного служения была характерна элитарность его активных пользователей, так называемых древних книжников, круг которых «был чрезвычайно узким, но именно они являлись не просто носителями нового литературного языка, но также и его творцами». Существенной особенностью в социолингвистическом аспекте функционирования церковного языка была направленность их деяний на доступность восприятия текстов разнородными массами пассивных потребителей: «В основе деятельности этого элитарного круга лежали задачи миссионерские: приобщение так или иначе широких масс христианизировшихся славян к текстам Св. Писания, к сочинениям отцов церкви и т.п.» (Ефимова 2011: 13-14).
Очевидно, что процесс появления славянской церковной литературы был тесно связан с началом формирования нового соборного единства среди языческих племен, с появлением новой социальной группы, обладающей языком сакрального качества – лингвосистемой с особенной структурой и функцией. При всей тогдашней близости между славянскими наречиями, церковный язык всё же представляется лингвосистемой с особенным статусом, отличающейся от народных разговорных наречий и в лексическом отношении, и в грамматическом*. Древние книжники формировали фонд книжной лексики разными путями – заимствованиями и словотворчеством: «Нет никакого преувеличения в утверждении: новый литературный язык на первых порах был призван выражать не исконно славянское ( = языческое), а заимствуемое (через греческое посредство) христианское духовное содержание» (Верещагин 1997: 3). При этом под греческим посредством понимается заимствование независимо от его происхождения и путей проникновения в греческий язык, что, прежде всего, касается иврита. В ходе конкретных переводов, редактирования и даже просто переписывания свв. Седьмочисленники и их последователи «создавали слова “по потребности” как для обозначения ранее неизвестных в славянском мире понятий и реалий, так и для з а м е н ы славянских слов, взятых из народной речи» (Ефимова 2006: 14).
Таким образом, часть лексики языческого наречия была возвышена до литургического уровня. То есть речь идет о создании лингвосистемы, радикально отличной от разговорного наречия какого бы то ни было племени; о специальном сословном языке, повышающем уровень общения с Богом и этим отличающемся от языка повседневного употребления, которому «обычно не хватает элемента святости и чистоты»; о языке, который придает бытовой лексике сакральные значения, несущие в себе большую духовную силу: «Сами слова и звуки этого языка вызывают священные чувства и образы, которые облегчают общение с Богом» (Markides 2005).
Этот процесс можно назвать сакрализацией, или освящением языка, когда бытовые понятия, открывающие только «исторический», т.е. буквальный и «низший» смысл», в библейском контексте (который, будучи боговдохновенным, несет абсолютную истину) стали обретать «высшие смыслы» (Пиккио 2003)). И только тысячелетие спустя, с расцветом Просвещения в XVIII–XIX вв., начался обратный процесс десакрализации и секуляризации славянизмов и обратное противостояние светской и духовной традиции, когда стали формироваться национальные литературные языки (Живов 1996: 497-510). Очевидно, вместе с этой секуляризацией и само название языка стало утрачивать высшее сакральное содержание и обретать низший исторический смысл.
Исследователь середины XIX в. К.П. Зеленецкий утверждал, что «ни у одного из Славянских племен наречие это не служит народным языком, но у всех православных оно есть язык Церкви». И этот язык Православия «получил начало в живом слове народа» и «никогда не оставался мертвым, подобно Латыни Запада» (Зеленецкий 1846: 1-2).
Классификация по признаку лингвистической актуальности и разделение на мертвые и живые, складывалась на заре становления языкознания, задолго до того, как зародилось социолингвистическое направление. Современные светские лингвисты относят к мертвым главным образом языки богослужебные, или литургические, или сакральные. Несомненно, использование современными учеными подобной терминологии в принципе, когда речь идет о типологии языков, о социолингвистике, представляется слишком безыскусным и скорее затемняет смыслы, чем их проясняет. Но разве это нужно просвещению?! Не без иронии можно сказать: в контексте социолингвистики, живые и мёртвые языки – это номинации анимистического уровня.
По сложившейся традиции к мёртвым языкам относят те, на которых никто не говорит, начиная с рождения, при этом упускается из внимания тот факт, что церковное рождение обусловлено не натальным, а духовным – в таинстве Крещения, которое по существу является вторым рождением и дает основание не для кровной, а для духовной социализации. И эта социализация искони не была обусловлена телесным рождением, наоборот, церковный язык создавали те пионеры из славян, кто были рождены в паганизме и прияли крещение уже в сознательном возрасте, когда церковный язык ещё не существовал, а только создавался (Ефимова 2006). А это значит, что владение этим языком изначально не было привязано к телесному рождению (как суть материнские языки), а инициировано именно Крещением. Уже позднее, когда христианство стало доминирующей государственной религией, сложился обычай крестить младенцев в христианских семьях на восьмой день, в знак Завета духовного, по аналогии с обрезанием, в знак Завета кровного (де Бруин 1873). В крещении новообращённый получал имя в соответствии со Святцами, чтобы иметь образец благодеяний для построения пути в церковной жизни, иначе говоря, для репродукции социального. Ф.Б. Успенский в одной из своих статей подробно описывал средневековую практику обладания двумя именами, полученными отдельно в натальном и духовном рождениях (Успенский 2011: 37-41): одно – для дел в мире, другое – для деяний в клире*.
К сожалению, в годы доминирования атеистических марксистских тенденций в гуманитарной науке из общественного сознания практически исчезло понимание смысла духовного рождения, или перерождения, которое философы, начиная с Гераклита, называют метанойей – процессом обретения человеком своей истинной сущности и о подобии которому свидетельствует Писание: «некогда не народ, а ныне народ Божий» (1-е Пет.2: 10). Наблюдения показывают, что в настоящее время в светских славянских обществах практически исчезло понимание различий между рождением и имянаречением вообще и в частности – наречением церковным именем при Крещении в знак нового рождения в церковном мире, в Духе.
Сравнительные языкознание и религиоведение показали, что идея второго рождения характерна не только христианству, но и другим религиозным традициям. Например, у иранцев, исповедующих веру, «прекращающую распри», второе рождение совершалось вместе с посвящением в тексты Авесты, в обряде Сэдрэ пуши (перс. букв. надевание рубахи) или Нав-джот (букв. ново-рождение). У индусов человек становился дваждырожденным в таинстве Упанаяны, в ходе которого юноши одной из трёх высших варн (брахманов, кшатриев или вайшьев) получали новое имя и приобщались к изучению священных текстов Вед, тогда как непосвященные переходили в презренную социальную группу той же нации (Комарова 1985:158-161). Христианская традиция второго рождения в таинстве Крещения восходит к завету Авраама; в иудейской истории схожую символическую инициацию можно увидеть в образах Исава и Иакова, получивших имена Едом и Израиль (Быт.25: 27-34) (Ростошинский 2017).
Христианская же религия, в отличие от иудаизма, не является специфически национальной системой воззрений (Мечковская 2000: 71), поэтому деяния свв. Учителей Словѣнских не совсем правильно интерпретировать только в этнокультурном контексте; их миссией было не столько обучить народы письменам, сколько способствовать обращению поганых к наднациональной кафолической / соборной Церкви, к обретению нового качества отношений в соборной реальности, актуализирующейся в контексте Св. Писания.
Философский взгляд на славянское геокультурное пространство распознает метафизическую природу таинства Крещения как акта «второго рождения», рождения не во плоти, а в Духе, в молитве, в Слове; а также обнаруживает особенное положение церковнославянского языка, не как национального и разговорного, а как сословного и литургического, «надэтнического и наднационального», имеющего свою семантическую систему «вышних сакральных смыслов», в отличие от «низших профанных».
Так исторически сложилось, что собственно славянская филология долгое время находилась в сфере атеистического влияния, тогда как роль представителей сословия священнослужителей в развитии языкознания была практически сведена на нет. С началом коренного идеологического перелома в гуманитарных науках, а также в связи с разгулом «маррийского учения» в языкознании, наметилась тенденция на искоренение религиозных мотивов из научной и педагогической литературы, тогда же возникли сложности и с социолингвистической типологией (Сталин 1950:III-XVI). На этом фоне научная специализация на литургических или богослужебных языках перешла в сферу рискованного языкознания, а многие исследователи системы языков и компаративистики были репрессированы. Таким образом, политические условия повлияли на формирование социолингвистической типологии в российской и славянской языковедческих школах.
В продолжение этих «традиций» современный российский научный портал Филология.ру так объясняет термин «мёртвые языки»: «Как и многие понятия, сложившиеся исторически, понятие "мёртвые языки" соотносится с достаточно большим множеством совершенно разнородных объектов… Например, церковнославянский язык, сформировавшийся первоначально как литературно-письменная форма древнеболгарского, вследствие своего распространения в качестве книжного языка далеко за пределами южнославянского региона обособился от последнего, породил литературно-письменную традицию, не тождественную собственно болгарской* и существует в наше время параллельно с современным болгарским языком» (Мусорин 2003: 3-6).
Для сравнения упомянем мнение о текущем положении дел в общеславянском языковедении известного хорватского исследователя Eduardа Hercigonja, который считает, что название старославянский язык наиболее целесообразно в использовании с нейтральной точки зрения, поскольку оно не указывает на народную основу; при этом всё же имеет некоторые недостатки, поэтому лучше использовать более корректный и точный термин– općeslavenskiknjiževnijezik (Hercigonja 2006). Однако нейтральность и обобщение едва ли можно считать наиболее подходящим критерием для точной классификации. Наоборот, они скорее ведут к неопределённости, что, впрочем, свойственно доминирующим в последние десятилетия постмодернистским и деконструктивистским тенденциям как в философии и культуре, так и в литературе и лингвистике, вообще в гуманитарном знании.
Вышедшая в России в 2018 г. за авторством известных современных лингвистов научно-популярная книга «Сто языков» в определении старославянского языка идёт ещё дальше и сообщает, что за его основу взят общеславянский язык! Правда, тут же вполне в постмодернистском духе добавляется, что эта основа относится к южнославянским языкам и что старославянский также называют староцерковнославянским (как предшественника церковнославянского) (Кронгауз 2018: 154-155). В системе же языков, старославянский позиционируется как мёртвый, при этом в статье ни словом не упоминается о его литургической, богослужебной функции, т.е. социолингвистическая типология избегается в принципе. Тогда как социальная типология в первую очередь различает языки по составу общественных функций и сфер употребления языков, по их социальному статусу.
Несомненно, именно социальную функцию следует считать типологически значимым признаком, именно в этом контексте необходимо рассматривать типологические характеристики языков и строить классификацию. Функциональная (социолингвистическая) типология включает в себя и типологию литературных языков. Для каждого литературного языка существен состав его функций и сфер использования – этим определяются их роли в жизни общества (Мечковская 2000: 30-33). Поэтому среди черт, отличающих церковный от других литературных языков, прежде всего, необходимо отметить ограничение сферы его применения литургическими потребностями.
В философской системе языков, определяющей каждому из них своё законное место, синтетический по происхождению церковный «ѩзыкъСловѣньскъ» носит сословный, литургический характер, что позволяет осознать его регистровое отличие от народного «древнеболгарского» или «старо- или древнеславянского» (Пиккио 2003). Словѣньскъ ѩзыкъ в силу своей сакральной природы не мог быть тождественным языческому разговорному наречию, потому что изначально создавался как орудие духовной культуры, для богослужебных церковных нужд, для кафолического общения, для разработки научной, философской и религиозной мысли. Это был язык «священный», т.е. «функционально-отличный от народного разговорного языка, как всякий литературный язык» (Толстой 1988: 4), тогда как существование дохристианского «литературного древнеболгарского» крайне сомнительно. Метафорически выражаясь, древнеболгарский скорее можно понимать как язык Софии земной, а Словѣньскъ ѩзыкъ – Софии небесной.
Словѣньскъ ѩзыкъ – название, устоявшееся на столетия ещё до появления первых светских языковедов. В русской литературе XVIII – начала XIX в. язык первых славянских текстов также именовали «славянским», «словенским» или «славянщиной». М.В. Ломоносов называл его древнецерковнославенским языком (нем. Altkirchenslavisch, англ. Old Church Slavonic) (Ломоносов 1986: 473-478). В первой половине XIX в. А.Х. Востоков впервые применил название церковнославянский, выделив в его развитии три этапа: древний, средний и новый; а во второй половине XIX в. совместно встречаются номинации: церковнославянский и старославянский. Уже в самом начале советского времени Ф.Ф. Фортунатов предложил разграничить понятия, назвав язык, на котором были написаны первые славянские тексты, старославянским, а современный язык церковной литературы церковнославянским. Таким образом, темпорально-этническое по своему содержанию означающее было соотнесено с социально-этническим по существу означаемым – с искусственной литургической сословной лингвосистемой, т.е. с языком, имеющим ярко выраженные функциональные и социальные характеристики.
Вот эта темпорально-этническая номинация, несмотря на то что дает основание для двусмысленности, была принята в советской языковедческой литературе, очевидно, с целью вуалирования роли церковных писаний в формировании национальных литератур. Несомненно, что на укоренение традиции наречения церковного языка старославянским оказала влияние атеистическая научная мысль, особенно, когда церковная мысль была репрессирована вместе со многими её потенциальными носителями. В российском славяноведении долгое время, мягко говоря, не приветствовалось акцентирование исследовательского внимания на этой стороне вопроса, так что в некоторых школах сложились соответствующие традиции. В таких условиях едва ли можно было рассчитывать на адекватную в целом типологизацию литургических языков. И только в постсоветские годы появилась возможность открыто заявлять о том, что вся русская литературная традиция имеет святоотеческое происхождение, потому что создавалась исключительно монахами: «Древнерусская словесность – это наша святоотеческая литература. Большинство древнерусских писателей, чьи имена нам известны, были канонизированы Русской Православной Церковью. И получается, что наша древнерусская словесность одновременно является нашей духовной литературой. Мы об этом особенно не задумываемся, а в светских вузах на это вообще не обращают внимания, и, таким образом, мы теряем из виду то духовное основание, на котором строится вся наша отечественная литература» (Ужанков 2014).
Бесспорно, что славянская литература началась с перевода священных книг, однако светским учёным такое видение дела не казалось слишком привлекательным, да и европейские коллеги ставили эту новообретенную святость в упрек, намекая на отсталость (Трубачев 1992). Видимо поэтому в европейской лингвистике даже немцы, со своей известной склонностью к «языковой экономии» (Sprachökonomie), предпочитают ей научную пунктуальность и выбирают максимально аутентичную версию – нем. Altkirchenslawisch, то же самое можно сказать и об англ. Old Church Slavonic.
В качестве полемического антитезиса к страстному желанию коллег-лингвистов искать терминологическую краткость в отношении литургического, сословного языка можно посоветовать обращаться к номинациям сакральным, акцентируя внимание не на диахронии, а на священноначалии, и называть сакральный язык священнославянским, потому что в этом и состоит «высший смысл» бытия тривиального старославянского.
Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что сейчас едва ли можно рассчитывать на окончание дискуссии об отношениях означаемого и означающего в связи с термином староцерковнославянский. В настоящее время у части языковедов сохраняется тенденция строить типологии, исходя из лингвистической актуальности. Однако следует заметить, что эта актуальность социально и мировоззренчески обусловлена и зависит от традиций, сложившихся в тех или иных школах: атеистически или агностически настроенные исследователи, сомневающиеся в жизнеспособности и перспективах литургических языков, удовлетворяются, образно говоря, анимистической классификацией, тогда как для священнослужителей итеологически ориентированных учёных актуальна именно социолингвистическая типология, особенно в условиях христианской реставрации на постсоветском пространстве.
Таким образом, принимая во внимание гипотезу лингвистического релятивизма, едва ли можно рассчитывать на конвенциональность в сложившейся двусмысленности, потому что выбор означающего во многом обусловлен субъективной реализацией свободы совести, а между тем и в определении самого понятия совесть также нет согласия в разных школах. То есть можно говорить о своего рода социолингвистическом релятивизме, когда определение места языка в общей системе зависит от социальной и мировоззренческой позиции познающего мир субъекта.
Принято считать, что науки отличает объективный взгляд на свои предметы, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, как сильно на эту кажущуюся объективность влияют внешние факторы: и политическая воля, и спонсорский заказ и т.п. Не следует также упускать из внимания и саму диалектическую природу науки, благодаря чему постоянно воссоздаются условия для критической оценки устоявшихся в той или иной традиции взглядов, что, при условии высокого качества дискуссионной этики, способствует совершенствованию и развитию знаний. Несомненно, социолингвистический взгляд на отношения между означаемыми и означающими может добавить ясности в осмысление содержания терминов для адекватного позиционирования литургических, сакральных языков в общей системе и для их аутентичной номинации.
* Важнейшую роль в становлении сравнительно-исторического языкознания в славянском мире сыграл журнал А.А. Хованского Филологические записки и его специальное приложение Славянский вестник.
*В истории русской церкви епископами долгое время становились греческие монахи, а в целом численность духовенства ограничивалась рамками 1% от общего славянского населения. В русском государстве священнослужители обрели статус одного из привилегированных сословий, имеющего приоритетное право в доступе к образованию. Как известно, первые школы стали появляться в православной части Церкви спустя несколько столетий после подвига солунских и охридских монахов. Поэтому, даже принимая в расчет многочисленные берестяные грамоты, обнаруженные в Новгороде, и, следовательно, относительно широко распространенную грамотность, обретение письменности народами и формирование национальных литератур суть явления весьма отдаленные по времени и совсем другого масштаба.
*Чтобы легче уяснить отличия церковного языка от народного удобнее рассматривать лингвосистемы в структуре: отдельно лексику и грамматику. Лексический состав церковного языка определяется текстами Св. Писания, а это значит, что в него вошла только часть лексики разговорного южнославянского диалекта. Другая часть лексики представлена новообразованиями и заимствованиями из греческого и через греческий из иврита и т.п. (Лазарев 2016: 171-182). Несуществующую грамматику церковно-славянского языка заместила грамматика греческого языка, задавшая необходимый набор значений и средства их выражений (Кравец 1991: 265).
*Клир (от греч. κλῆρος (клирос)) – отломок чего-либо, использовавшийся в качестве жребия; наследство, владение (название церковного служения жребием встречается в Св. Писании (Деян.1:17-25)) – 1) особый разряд членов Церкви — священнослужителей и церковнослужителей; 2) совокупность представителей этого разряда; 3) «наследие Божье», священное собрание (христиан) (1Пет.5: 3).
* Т.е. не национально-культурную традицию, а духовно-культурную.
1. Бернштейн С.Б. К вопросу о диалектной основе польского литературного языка [В:] Известия Академии Наук Союза ССР. Отделение литературы и языка 1, 1941.
2. де Бруин К. Путешествие через Московию в Персию и Индию. М., 1873.
3. Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
4. Верещагин Е.М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка: переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.
5. Ефимова В.С. Наименование лиц в старославянском языке. М., 2011.
6. Ефимова В.С. Старославянская словообразовательная морфемика. М., 2006.
7. Желтов И.М. Система языкознания по Гейзе (ученик школ Гегеля и Боппа) [В:] Филологические записки 2. - 1864. - С. 123-187.
8. Живов В.М. Секуляризация славянизмов и противостояние светской и духовной традиции [В:] Язык и культура в России XVIII века. - М., 1996. - С. 497-510.
9. Зеленецкий К.П. О языке Церковно-славянском, его начале, образователях и исторических судьбах. Одесса, 1846.
10. Комарова Г.А. Рецензия на: «Этнография детства: традиционные формы воспитания детей и подростков у народов восточной и юго-восточной Азии». Отв. Ред.- И.С. Кон. [В:] Этнографическое обозрение 2, 1985. - С. 158-161.
11. Кравец Е.В. Книжная справа и переводы Максима Грека как опыт нормализации церковно-славянского языка XVI века[В:] Russian Linguistics 3, 1991. V.15.
12. Кронгауз М.А., Пиперски А.Ч., Сомин А.А. Сто языков. Вселенная слов и смыслов. - М., 2018.
13. Лазарев А.И. Grammaticasubspeciephilosophia: вечность в философии и грамматике [В:] Славянский вестник: история и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию сборника «Славянский вестник». Воронеж: Кварта, 2016. - С. 171-182.
14. Ломоносов М.В. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке [В:] Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1986. - С. 473-478.
15. Мечковская Н.Б. Надэтнический характер религиозного сознания [В:]Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. 2-е изд., испр. М.: Аспект-Пресс, 2000. С. 71.
16. Мечковская Н.Б. Территориальная и социальная дифференциация и формы существования общенародного языка [В:] Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев. 2-е изд., испр. М.: Аспект-Пресс, 2000. - С. 30-33.
17. Мусорин А.Ю. О содержании понятия «мёртвые языки» [В:]Язык и культура. Новосибирск, 2003.
18. Пиккио Р. Slavia Orthodoxa: Литература и язык М., 2003.
19. Ростошинский А.И. Сравнительный обзор индоевропейских культурно-цивилизационных истоков славянства [В:] Kultura słowian: rocznik komisji kultury słowian PAU. Kraków, 2017. Т.XIII. S. 41-52.
20. Сталин И.В. Относительно марксизма в языкознании [В:] Звезда 7, 1950. С. III-XVI.
21. Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
22. Трубачев О.Н. К отдаленнейшим истокам нашего самосознания: Презентация одной книги. [В:] Литературный Иркутск, Апрель,1992. - С. 12-13.
23. Ужанков А.Н. Воспитание красотой [Православие.ру]<https://pravoslavie.ru/68761.html> 19.02.2019.
24. Успенский Ф.Б. Родовые имена и небесные покровители в семье московских великих князей [В:] Московский Кремль XV cт. Москва: Арт-Волхонка. - 2011. - Т. 1. - С. 37-41.
25. HercigonjaE. Tropismenaitrojezičnakulturahrvatskogasrednjovjekovlja.Zagreb: Maticahrvatska, 2006.
26. Markides K.C. Gifts of the Desert: The Forgotten Path of Christian Spirituality. NY: RandomHouse-Doubleday, 2005.